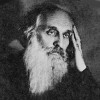Православная миссия
и катехизация
и катехизацияБиблиотекаЛитература миссионеру и катехизаторуИзбранные проповеди. Сергий (Савельев), архимандрит
Избранные проповеди. Сергий (Савельев), архимандрит
Скачать в формате DOC EPUB FB2 PDF
Содержание
Слово в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове (23 июля 1969 г.)
Из слова в том же храме (1975 г.)
Из проповедей в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове
Слово о страдании и сострадании
Слово о любви и ответственности христиан
«Мы пришли под Покров Божьей Матери» (4.01.67)
«Если я останусь верен любви»
«Вся моя жизнь открыта перед вами…»
Мы стремились осмыслить нашу церковную историю
Слово в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове (23 июля 1969 г.)
Сегодняшний день, дорогие мои, я поставил перед собой задачу, которая, чувствую, мне непосильна. Я вам обещал рассказать о том, что же я в итоге своей семидесятилетней жизни увидел, чему научился, что запало в мое сердце навечно. Сегодняшний день мне хотелось бы уделить вопросу о том, как же жила и живет наша святая Церковь. Когда мы говорим «церковь», то под этим словом подразумеваем строение, здание, в котором мы собираемся для молитвы. Под этим словом понимается и церковное общество — все мы, верующие во Христа. И третье понятие — Церковь как Тело Христово. Наше тело — душа в нем, она оживотворяет наше тело. Так и Христос — Он есть Любовь, оживотворяющая наше церковное Тело. Он предал Себя за святую Церковь, и эта Его святая искупительная жертва и дала основание тому, что мы видим теперь. Но я буду говорить не о церкви как о строении, не о Церкви как о Теле Христовом, как о Нетленной Невесте и Безневестной вечной Церкви, а о церкви как о церковном обществе, о церкви, которая перед нашими глазами и которую мы составляем. Вот мне и хочется сделать краткий обзор того, как начала свою жизнь церковь Христова, как мы живем теперь и что у нас впереди.
Церковь Христова рождена Спасителем нашим, Он в Своем человечестве был с нами и учил нас тому, как следует жить, чтобы обрести вечную жизнь. Что же Он нам говорил?
Евангелие раскрывает перед нами всю жизнь Христа. Конечно, очень многие подробности жизни Христа не получили отражения в Евангелии, но и того, что нам оставили апостолы, достаточно, чтобы иметь ясное представление о служении Христа. (Я должен оговориться, в моем распоряжении очень мало времени, и поэтому я вынужден говорить очень кратко.) Что творил в Своей жизни Спаситель? Он явил нам Свою бесконечную Любовь. Он пришел для того, чтобы призвать к Себе обремененных и страждущих. Для чего их призвать к Себе? Для того, чтобы упокоить их, для того, чтобы они обрели силу и могли нести свой крест дальше.
Вся Его жизнь есть служение человеку. Это следует нам понять. Он учил Своей жизнью. К Нему приходили немощные, нищие, слепые, хромые, душевнобольные, и все от Него чаяли спасения. И Он всегда был с народом, всегда ему служил.
Иногда Он удалялся на гору для совершения молитвенной беседы со Своим Небесным Отцом. Вы все помните, как однажды Он взял с Собой апостолов Петра, Иоанна и Иакова на высокую гору и там преобразился пред ними. Апостолы испугались, когда увидели, что с Ним — пророки Моисей и Илия. Они пали ниц и услышали с неба голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Он подошел к ним, коснулся их рукой и сказал: «Не бойтесь». И потом спустился с горы святой, с горы, которая сияла светом божественным, спустился вниз, где Его ждали люди, и сразу же пред Ним преклонил колени отец с мольбой: «Господи, помилуй сына моего; он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь, бросается в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Помоги, Господи!» Господь призвал бесноватого к Себе и исцелил его.
Вот это противопоставление — слава Преображения на горе святой и мир страданий. С этим страдающим миром и был Господь и заповедал нам идти тем же путем.
Апостольское время. Вы знаете, когда Дух Святой сошел на апостолов, то все были потрясены страхом велиим, но и радостию велиею они были охвачены. И тогда сильно увеличилось число христиан. Все они были вместе, все они имущество свое объединили, были единодушны, и всем это было на удивление. Вот вам еще свидетельство того, что такое святая Церковь.
Труды апостолов. И о них мы знаем многое, особенно об апостоле Павле, апостоле народов, который прошел почти всю вселенную, утверждая веру Христову. Но кто такой был апостол Павел, как он жил и что нам он своей жизнью завещал? Его упрекали некоторые за то, что он не видел Христа, не был с Ним, и поэтому он как бы не апостол. Хотя он, может быть, и больше апостол, потому что Христос открылся ему тогда, когда он шел в Дамаск для того, чтобы мучить христиан. Так вот его укоряли и, вероятно, не раз. Что же он пишет в Послании к коринфянам? «Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. Христовы служители? в безумии говорю: я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук» (2Кор 11:22–32).
Вот жизнь апостола Павла, такая жизнь была у всех апостолов, такова была жизнь всей апостольской Церкви. Конечно, в разной степени они могли вести такую удивительную жизнь, какую вел апостол Павел. И вы знаете, что церковь все крепла, крепла. Слово Божие все больше и больше распространялось. Весть о том, что Сын Божий сошел на землю, что Сын Божий — Сын Человеческий, Иисус Христос, весть вселяла глубочайшее волнение в людей. Люди увидели свет во тьме, что этот свет — великий, и всем сердцем потянулись к нему.
Затем наступила эпоха гонений. Сколько было пролито крови, сколько было мучений, страданий — один Бог знает. В эти трудные времена часть верующих предавалась малодушию и отходила, но большая часть стояла крепко и исповедовала Христа, во плоти пришедшего и указавшего нам путь спасения.
Это было прекрасное время, время великих подвигов, время, когда чистота веры не могла ничем запятнаться. И так как вера Христова — высочайшее откровение в жизни, то, естественно, она вызвала против себя и великое сопротивление. С одной стороны, церковь расширялась, а с другой, гонения и нападения на нее увеличивались. Но вопреки гонениям церковь становилась все более мощной, голос ее звучал все крепче, и уже ясно было, что нет такой веры, нет такого учения, которое было бы столь прекрасно, столь возвышенно, как вера во Иисуса, Сына Божьего.
Трудно сказать, что было бы дальше, да и не следует испытывать судьбу. Но случилось то, что император Константин, которого церковь чтит как равноапостольного, возжелал эту Христову Церковь защитить. Сначала он объявил, что все религии в его империи имеют равное право и равные возможности для совершения богослужений. Но потом он сделал Церковь святую господствующей. Все другие религии он, если не запретил, то, во всяком случае, крайне стеснил. К сожалению, об этом событии не говорят наши церковные руководители. А между тем оно имело громадные последствия в жизни церкви, я бы сказал, последствия очень тяжелые.
Христос — Любовь. Христос заповедал нам любить ближнего своего, как самого себя. Христос заповедал нам быть милостивыми, быть миротворцами, быть чистыми сердцем. Он дал нам наипрекраснейшие заповеди, но Он не заповедовал насилием утверждать веру Христову. Насилие и Христос — это совершенно несопоставимые понятия, о них невозможно говорить одновременно. Там, где Христос, — насилия нет, там, где насилие, — Христа нет. Поэтому когда Константин сказал православным епископам, что они — епископы внутри церкви, а он — епископ вне церкви, то как бы поставил себя над церковью. Но кто он был? Он был император, он обладал не только властью, но и всеми средствами насилия. И произошло страшное событие — церковь попала под защиту человека, который имел в руках меч. Гонения окончились, верующие возрадовались. Особенно возрадовались епископы. Но радость тех и других была разной. Епископы почувствовали, что они могут теперь спокойно жить и не очень беспокоиться о том, чтобы полагать свою жизнь на служение людям. А верующие возрадовались потому, что они получили возможность собираться вместе и открыто совершать моления.
И вот с этого события начался новый период в жизни нашей церкви. Мало-помалу государственная власть стала использовать церковь в государственных интересах. Императоры все меньше и меньше считались с самой церковью. Этот процесс из года в год, из века в век продолжался и, в конце концов, привел церковь к такому ужасному положению, в котором она находится и в настоящее время.
Были святители, которые пытались противодействовать царскому насилию. Среди них был святитель Иоанн Златоуст, с великим мучением наблюдавший, как господствуют в церкви уже те люди, которых Господь не знал, — люди знатные, богатые. Он видел, что люди бедные, страждущие, все больше и больше отходили от церкви. Но что он мог сделать, видя это ужасное перерождение церкви? В своих посланиях, в своих проповедях он постоянно призывал: «Будьте милостивы!» Он видел, что жизнь порабощается чуждым для церкви духом, и этот тлетворный светский дух проникает в саму церковь, захватывает ее, и молил только об одном: «Будьте милостивы!» Почти каждое его слово заканчивалось мольбой к молящимся: «Будьте милостивы!» Он как бы хотел этим сказать: «Я знаю, что у нас здесь происходит, я знаю, что богатые наступают на нас, я знаю, что бедных попирают. Но что я могу с этим поделать? Будьте милостивы, восполните это несчастье церковное».
Это было тяжело слушать тем, кто уже обрел власть над церковью, и вы знаете, что Иоанн Златоуст был сослан, что народ плакал о нем, вы знаете и о том, что он еще раз был сослан, еще дальше, чтобы к нему никто не мог бы приехать или какое-нибудь послание вручить, и на пути в ссылку он скончался.
Я преклоняю свою голову пред ним. Именно так он и должен был учить, невзирая на то, что его ожидает. Лучше умереть со Христом, нежели видеть то, что видел святитель Иоанн Златоуст.
Позже царица назначила патриарха, который был удобен для нее, и на константинопольской патриаршей кафедре больше уже не было ни одного святителя, подобного святителю Иоанну Златоусту.
Вот смотрите: от начала христианской жизни еще не прошло и четырех веков, а уже страшные перемены произошли в церковной жизни.
Пришло время Крещения Руси. Владимир, великий князь, принял решение крестить русский народ. Само по себе это было событие очень важное и необходимое. Но не государственной власти это нужно было делать. И то, что князь Владимир решился это провести, решился крестить русский народ, опираясь на государственную силу, было по существу повторением того, что сделал Константин Великий.
Когда Владимир приехал в Киев, он крестил своих сыновей, потом издал указ, чтобы все приходили креститься на Днепр. А перед этим он приказал сокрушить всех идолов, а главного идола, Перуна, привязали к концу конского хвоста и волочили его, и били палками, а в это время люди рыдали, видя, что боги их так сокрушаются, и так оскорбляется их религиозное чувство.
Нигде — ни в Евангелии, ни в апостольских посланиях, ни в трудах святых отцов — мы не увидим подобного внедрения христианства. Христианство — это есть любовь, а когда оно вводится с насилием, то здесь уже несчастье для людей…
Чем замечательна вера Христова? Она замечательна тем, что овладевает сердцами нашими незаметно, она любовью проникает к нам и открывает нам путь к Царству Небесному, путь к вечной жизни. А если народ рыдает, если народ палками гонят к крещению, если народ разбегается по лесам, чтобы только против своей совести не пойти?.. Владимир послал своего дядю Добрыню в Новгород. Путята тысячник — военачальник по-нашему — переправился лесами, тайно, через реку и вошел в город, а когда новгородцы узнали, кто пришел, то была большая резня. Потом пришел Добрыня и приказал жечь город и сокрушить всех идолов. Новгородцы должны были склонить свои головы — и вот слезы, рыдания. И пошла потом поговорка: «Путята крестил нас мечом, а Добрыня — огнем». Вот так у нас началось христианство. Нарушен был основной закон Христовой жизни. Каким должен был быть путь здесь? Путь мог быть только один — путь любви. Приемлет человек любовью эту святую веру — слава Богу, не приемлет — не тревожить его, а любить таким, какой он есть. Мы, христиане, должны бояться не только всякого насилия, но и всякого принуждения. Пусть нас будет мало, пусть нас будет совсем мало, но мы должны сохранить евангельское учение во всей чистоте и, прежде всего, заповедь Христову о любви держать перед собой как свет, освещающий темный путь в этом мире.
После этого была большая междоусобица в нашей стране. И наше духовенство тоже использовалось. Когда нужно было князьям, они ставили своих митрополитов, когда князя свергали, изгоняли и митрополита. Словом, церковь стала обслуживающей государственную власть. Но пока государственная власть не укрепилась, церковь имела еще более или менее серьезное значение, принимала участие в устроении, в созидании русского государства. И с государственной точки зрения, церковь, конечно, исполнила великое дело, оказав князьям помощь в созидании Московского царства. Но это дело было государственное. А жизнь Церкви, Тела Христова, Невесты Христовой? Как она-то дышала? Тогда еще были такие люди, как Антоний Печерский, Сергий Радонежский и его ученики, тогда были подвижники, к которым приходили люди для того, чтобы подвизаться ради Христа и подвизаться узким путем, нести страду монашеской жизни.
Вот еще один момент, который нужно оттенить. Церковная власть иногда пыталась бороться с государственной властью. Эта борьба достигла высокой силы при патриархе Никоне. Патриарший престол стоял рядом с престолом царя, и патриарх Никон — а он был очень волевой человек — хотел, чтобы его духовная власть как бы распространилась и на самого царя. Но даже такой царь, как Алексей Михайлович, которого называли «тишайшим», и тот в конце концов отстранил патриарха Никона, лишил его патриаршества. И это было естественно, это было необходимо, потому что патриарх Никон не за свое дело взялся. «Царство Мое не от мира сего», — говорит Христос. А ты куда пошел? Вместо того, чтобы отдать себя на служение людям ради Христа, исполнять закон Божий, любовью растворять всякую вражду, ты что делал? Ты бросился на борьбу за влияние на государственные дела. Повторяю, конец патриарха Никона был совершенно законный, иначе это и быть не могло.
И при нем же совершилось великое несчастье. Непонятно как, но возникло движение в самой церкви. Люди чувствовали, что надвигается что-то страшное для церкви, и они ухватились за двуперстие, за старые книги и не приняли те новые, которые Никоном были исправлены. И, казалось бы, такой незначительный повод, но он привел к тому, что, может быть, наиболее крепкая, наиболее, может быть, и здоровая часть русского народа ушла в раскол. Из-за чего? Из-за двух перстов, тремя ли перстами молиться или двумя? Неужели Никон не понимал, что если они хотят молиться двумя перстами, то Бог с ними, пусть молятся двумя? Дело не в этом. Если они хотели служить по старым книгам и исправления, которые внес Никон в эти старые книги, они не признавали, то Бог с ними, пусть молятся по старым книгам. Нет, гордыня человеческая восстала против этого, и церковь обагрилась кровью.
К грехам, бесчисленным грехам, которые были совершены до этого, прибавился еще грех, страшный грех — стали пытать, ссылать, казнить людей, и за что? Только за то, что люди были поставлены патриархом Никоном в такое положение, что они увидели не только двуперстие, не только исправление книг, но они увидели в нем что-то такое страшное. И они готовы были умереть, но не отказаться от своего. Так под видом очень незначительной, можно сказать, формальной причины возникло движение, которое сохранялось столетиями и, к стыду нашему, сохраняется в наше время.
Несколько лет тому назад я слышал, что из Турции в Америку перевозили последнюю группу людей, которые бежали от преследований царского правительства и церковных руководителей в Турцию. Там и жили. И вот оттуда их перевозили в Америку. Они сохранили язык свой таким, каким он был. Они сохранили свой быт таким, каким он был сто лет назад. Они сохранили все то прекрасное, что увезли с собой. И когда мне сказали, что эти люди летели в Америку над нашей страной, я не мог без слез этого принять. Почему же они не приехали к нам? Ведь они же русские! Они же страдают, покинув родину! Но когда я подумал, кто их здесь встретит, когда я подумал о том, что происходит в нашей Православной церкви, мне стало очень тяжко как русскому человеку, как человеку, любящему Христа и Его святую Церковь: такой позор, что наши братья не захотели вернуться к нам! Не захотели потому, что мы не могли бы с любовью их встретить…
И вот пришел Петр Преобразователь. Он преклонился перед иноземщиной. И окончилась часть нашей истории, открылся новый период — петербургский, императорский период.
Петр I был всецело поглощен преобразованием нашей жизни, открытием, как говорили, «окна в Европу». Пробился он к берегам Невы, основал город Петербург, отдал все свои силы на устроение государства. Широко открыл ворота для иностранцев, прежде всего, для немцев. Немцы хлынули в Россию, захватили лучшие, важнейшие места в государстве, стали главными советниками Петра.
Петру церковь была не нужна. Он был император, и его власть для него была дороже народного сознания, народного желания. Он упразднил патриаршество, установил Святейший Правительствующий Синод и поставил над ним обер-прокурора как «глаз царев».
Кончилось все. В этот момент церковь уже почти потеряла всякую способность животворить. Высшие слои церковной иерархии все больше проникались бездушными идеями, которые шли с Запада, все больше и больше утрачивали живое сознание и живую связь с верующими.
После смерти Петра прошло 5–6 лет, и наша страна попала во власть немца-проходимца Бирона. И о церкви православной, о жизни ее, о нуждах ее говорить стало уже невозможно. Церковь замерла. Повторяю, высшее духовенство, наши епископы, митрополиты стали сановниками, стали частью той немецкой бюрократии, которая насаждалась в Петербурге. В мелочных ссорах, в мелочных интересах они препирались между собой, старались как-нибудь выдвинуться вперед, заслужить благоволение гражданской власти.
А под ними? Под ними — народ. Под ними — рядовое духовенство. Что им оставалось делать? Оставалось только страдать. И каждая душа, верная Христу, начала мученический путь своей жизни. Церковное общество раздвоилось. Одна часть пошла вслед за тем светским духом, которым была переполнена жизнь в Петербурге, и совсем забыла о Христе. А другая часть, повторяю, мучилась, стонала, горевала, старалась как-то вырваться из этого страшного состояния. Ведь духовная жизнь требует не формы, не оцепенения, не стояния на месте, а неустанного продвижения вперед, сопутствования человеку на его пути. Но это было невозможно, и вот отсюда пошло раздвоение общества.
И вот все больше и больше накипало в сердце человека в болезнях, в горестях. Было подсознательное состояние: так жить больше нельзя. Люди чувствовали, что надвигается катастрофа. Некоторая часть, большая часть, очертя голову бросилась в это житейское море, попирая все святое. Я вам сейчас прочту несколько строк, которые вас, вероятно, очень удивят: «Жизнь была деморализована. Господствовал дух обогащения, дух жизни роскошной, дух грабежа. И этот дух проник в самую глубину нашей жизни, даже туда, куда, казалось бы, эта болезнь не должна была проникнуть. Деморализация проявлялась особенно ярко в монастырской жизни в той жестокой эксплуатации, которой ради наживы подвергались крестьяне, поселявшиеся на монастырских землях. Тяжелые работы, крайняя нищета, обиды, грабежи, телесные наказания», — это пишет один из самых прекрасных людей, бывших у нас, преподобный Максим Грек. Его дважды судили наши иерархи, а теперь его имя мы чтим как одно из самых замечательных или, вернее, должны чтить как одно из самых замечательных имен в нашей истории. — «Озлобление железными оковами, несправедливые поборы всякого рода — вот обычное положение монастырского крестьяни на, которое становится еще хуже, когда он задолжает. Если он не мог заплатить проценты, ему не оказывали никакой милости, налагали лихву на лихву (то есть проценты на проценты). И в случае безденежья должника в уплату брали все — последнюю коровенку, лошадь, подвергали мучениям, но только вне монастыря. Вообще это была настолько горькая жизнь, что кровь христианина вопияла к небу на обидящих иноков, питавшихся христианскими слезами» (Максим Грек, том второй его сочинений). Я уже вам сказал, что этого страдальца дважды судили, заточали. Он молил, чтобы его отпустили на родину. Он был из Греции к нам прислан. Мы просили, чтобы нам прислали такого хорошего, умного, образованного монаха, который мог бы нас научить добру. И вот нам прислали этого удивительного человека, но мы с ним расправились так, как, может быть, не расправляются даже с тяжелыми преступниками.
И вот такой резкий контраст: там крестьянин без лошаденки, без коровки мучается, не знает, как прокормить семью, а в монастырях (я говорю о монастырях потому, чтобы вам было понятнее: если в монастырях это творилось, то что же творилось кругом?) монастырские власти роскошествовали. Какие пиры там устраивали, какие запасы самых прекрасных яств монастырь имел в своих погребах!
И все это началось в IV веке. Казалось бы, ничего такого страшного не произошло. Константин великую милость хотел оказать церкви. И во что же эта милость вылилась? В то, что церковь потеряла свое лицо. Наверху — император, внизу — сановники церковные, дальше — рядовое священство, забитое до предела, ограниченное всевозможными уставами, правилами, боявшееся своего начальства, часто спивавшееся и часто жившее неподобно. Можно удивляться тому, что они что-то еще сохранили — образ человеческий, образ Божий.
И вот такое четырехэтажное здание: император со своими сановниками, духовная аристократия, рядовое духовенство забитое и — несчастный наш народ. Я уже вам говорил, что люди не могли этого терпеть, вырывались из этих ужасных объятий. Это были люди сильного духа. Они уходили в секты, они уходили в раскол. Такой человек, как протопоп Аввакум — это же глыба человеческая, это великий дух, великая сила — что же он? И он пропал на русской земле. Его замучили духовные сановники. Вспоминается мне еще одно имя — Селиванов, родоначальник секты хлыстов. Об этой секте много рассказывали скверного, ложного. Я ее не хочу оправдывать. Это несчастье, несчастье прежде всего для них, но надо попытаться их понять: ну что же делать, когда все замерло? Что же делать, когда жизнь в церкви оскудела? И вот люди бросаются в секты, бросаются куда угодно, лишь бы только раскрыть свою творческую, жизненную силу.
Святая церковь все больше и больше оскудевала, все больше и больше людей отходило от нее, а те, кто оставался, часто бывали равнодушны, хотя и ходили в церковь, совершали церковные таинства, обряды, но так, чтобы все это лишь исполнить, чтобы не осудили, чтобы кто-то начальству не донес. И вот, дорогие мои, живя так, мы подошли к рубежу.
Революция нагрянула неожиданно. Это был суд Божий над теми, кто отступил от Бога. Вы знаете, что это был страшный ураган, сметавший на своем пути все, что ему сопротивлялось. Вы знаете, что была сметена вся царская бюрократия, сметена была и наша церковная сановная бюрократия. И надо поражаться тому, что церковь осталась. Ведь в то время можно было очень легко осуществить окончательный разгром церковной жизни. В октябре восстали силы такие, которые, даже сами не сознавая, поставили вопрос о переделке всей жизни. Что мы в их глазах были? Кого видели перед собой люди, оказавшиеся у власти в октябре 1917 г.? Они видели своих противников, врагов. Они не знали, кто такой христианин. Они видели только искаженное лицо христианина, отвратительное лицо.
Я вас прошу, вспомните апостольское время и вспомните то, что на ваших глазах было. И вы увидите — было что-то страшное. Когда Господь пришел судить нас, мы были достойны всякого суда. Нас могли всех уничтожить. И, поверьте мне, это было бы по нашим грехам…
Что же дальше было? Дальше было, дорогие мои, печальное дело. Казалось бы, наша церковная иерархия, которая уцелела, — а тогда еще много было наших епископов, но никто из них не понял, что это время есть время великого перелома, время драгоценное для церкви, самое драгоценное время, — наша церковная иерархия должна была бы стремглав, не теряя ни одной секунды, устремиться сердцем своим в апостольское время, распустить все, раздать все и сказать всем: «Простите нас. Мы были в затемнении. Но с сегодняшнего дня мы берем суму и посох и идем вам служить». Это было единственное — другого решения не могло быть. Всякое другое решение могло принести и принесло только еще больше несчастья нашей церковной жизни.
А что сделало наше высшее духовенство? Оно думало, что новая власть долго не удержится, вернется старая, все будет по-прежнему, что оно будет вновь на своих епархиях, вновь будет губернаторами в своем духе, вновь вернутся большие доходы, и оно будет в прежнем величии. Кто-то, может быть, и сознавал что-то другое, но был слаб духом и сказать ничего не мог.
И вот уже второе пятидесятилетие идет. Мы видим угасание, угасание нашей церковной жизни. Мы видим, что церковная жизнь на наших глазах распадается. Где верующие? Скажите мне, кто не прячется из вас? Кто не ходит переулками в храм Божий? Кто из вас не совершает в тайне какой-нибудь церковный обряд? Как воришки боимся. Чего мы боимся? Мы, верующие люди, мы, обладатели величайшего сокровища, боимся, ходим сторонкой, даже в своем храме всё как-то ежимся и думаем: «Вот завтра хлыстнут нас как следует». Это ужасное положение. Страшное положение. Если это останется так, то, дорогие мои, лучше, лучше, чтобы был конец. Потому, что невыносимо видеть своими глазами, как мы сами разрушаем нашу церковь…
(Магнитофонная лента обрывается ).
Из слова в том же храме (1975 г.)
…Когда я вспоминаю все то, что говорил в эти дни, в дни чтения акафистов, то хорошо сознаю, что многое из того, что вы слышали, для вас было и трудно и, может быть, непонятно. Но я должен был вам это сказать по долгу своего служения святой Церкви. И суть того, что я говорил, заключалась в том, что наше церковное общество зашло в тупик и, похоже, дальше нет никакого просвета.
Я старался вам объяснить, почему это произошло. Пришлось мне сделать как бы исторический обзор. Но вы понимаете, что условия, в которых я находился, то ограниченное время, которое было в моем распоряжении, — все это, конечно, очень затрудняло, да и сама тема меня слишком волновала, чтобы я мог спокойно говорить.
Мне было грустно, но, тем не менее, я должен был говорить. Мне нужно было пройти через джунгли нашей церковной жизни для того, чтобы или, обессилев, отойти в сторону или, если Господь даст еще силы, продвинуться вперед. Но подкрепляемый любовью вашей и сознавая ответственность за свою жизнь, за то, что я не сам пришел сюда, что Господь меня поставил, я понял, что должен вам еще кое-что сказать. Мне хочется разъяснить вам, что все происшедшее в церкви случилось от того, что вера наша оказалась оторванной от жизни. Вера наша, Евангелие, Христово исповедание не были для нас огоньком, освещающим путь жизни. Мы оделись в формочку, и в этой формочке закрыли тот благодатный свет, который нам был дан при Крещении.
Я задумался о том, почему преподобный Сергий построил храм, небольшой храм в честь Пресвятой Троицы, и увидел, какой же это был великий человек, какой же это был тайновидец! Храм в честь Живоначальной Троицы — это сердце преподобного Сергия. Он знал, что в единстве наше спасение, что это основа нашего вероисповедания — Живоначальная, Единосущная, Нераздельная Троица. Мы же привыкли произносить «Троица» и совершенно не отдавать себе отчета в том, к чему нас призывает содержание Троицы, к чему оно нас обязывает. Троица: Отец, Сын и Дух Святый. Христос — Сын Божий и Сын Человеческий. Христос — Богочеловек. Это означает соединение, примирение человека, нас с вами, через Христа с Отцом Небесным, через Христа, Который из глубины Отцовской родился, воплотился и вновь вернулся к Отцу Своему. Он пришел к нам, чтобы наше униженное, оскорбленное, обесчещенное грехом естество также поднять к Отцу, вернуть нас Отцу. И вот этот богочеловеческий процесс в истории был завещан нам Христом. Чтобы мы от человека шли к Отцу Небесному. Вот путь, который был открыт нам Христом. А мы забыли об этом, мы не полагаем все свое усердие к тому, чтобы наша жизнь от человечества, от низменных страстей, от греха, от плоти преображалась к Духу Святому, к Господу. В этом и есть корень всего того несчастья, в котором мы, верующие, находимся в настоящее время. Об этом мы должны помнить каждый день. Прежде всего мы должны думать об этом.
Дорогие мои, самого главного, самого главного — раскрытия основ нашей веры в самой жизни — у нас нет. Мы Евангелие носим в руках, но не в сердце своем. Мы живем, отвернувшись от Христа. Вот в чем горе наше. Мы Евангелие положили в стороночку. Читаем его, прочтем — и все. Батюшки говорят проповеди — какие проповеди? Да проповеди такие сто лет уже говорили, говорили одно и то же: вот праздник такой-то… Все, что говорилось, было внешнее. А жизненное, внутреннее, что преображало бы нашу жизнь, — этого в наших условиях не могли говорить. А мы ведь призваны не к тому, чтобы просто прийти в храм, послушать и уйти, мы призваны к совместному, общему обновлению нашей внутренней, духовной жизни.
Берите посох в руки. Будем с Божией помощью продвигаться вперед. Неудобоносимое бремя я не хотел бы, чтобы вы на себя возложили, я и сам неспособен неудобоносимое бремя нести. Но то бремя, которое я почувствую, что могу нести, и вы сможете принять на себя. Тот, кто не захочет это делать, тот, конечно, поймет, что путь его иной и, если он честный, то отойдет в сторонку.
Время течет быстро. То, что происходит за десять лет сейчас, не происходило ранее и за сто. Все ускоряется. Мы должны препоясать свои чресла, чтобы выполнить тот долг, который Господь на нас возложил.
Да хранит вас всех Господь!
Из проповедей в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове
Что-то трудно сегодня мне беседовать… Мысли грустные. Мысли, которые покоя мне не дают. Вот и вчера ночью хотел заснуть, а сна — нет. Бушуют мысли, и думаешь: что же это такое? Проверяешь себя и видишь, что ну как же им не бушевать. Ведь то, что слышит сердце, то, что проходит через сознание, — мучительно. Откроешь газету — да, там много хороших известий… А душа тоскует, душа жаждет пищи духовной.
Я вам в прошлый раз говорил о том, что новая жизнь созидается. Это великое дело. Дышать, продолжать жить так, как мы жили раньше, невозможно.
Это было страшное землетрясение — в 1917 году. Хорошо, но ведь после этого прошло уже много лет, почему же сейчас-то мы, христиане, в таком грустном, бедственном положении?
Мы приходим сюда, в храм, чтобы как-то обогреться. Обогреемся — и уходим, и снова делаемся, как сосульки ледяные. А холод-то, мороз-то уже проходит и внутрь храма. И уже в храме-то сосульки нас покрывают. Мерзнем. Вероятно, вот так замерзают люди, когда мороз, когда они заблудятся и уже без сил остаются. Так вот и мы. Казалось бы, сладкое засыпание. А у нас — засыпание мучительное.
Почему же это так и почему мы приходим в храм, когда уже или состаримся, или когда уже настрадаемся, или когда больными сделаемся? А когда мы крепкие, молодые, здоровые, тогда нам и в храм-то не хочется идти — живем беззаботно.
А из храма выходим как? Выходим из храма — и вновь погружаемся в среду, которая не приемлет нас, для которой мы как бы чуждые. Мы сами становимся как бы двумя сосудами, которые не соединяются друг с другом. И это вместо того, чтобы выйти из храма и там найти для себя продолжение храма. И это вместо того, чтобы помнить, что храм Божий внутри каждого из нас, и что этот храм в нас — самый драгоценный, и мы должны хранить его с юных лет, оберегая от всего порочного. Мы с вами, как избитые врагом рода человеческого, только тогда задумываемся о себе, когда приходит час испытаний.
А ведь, дорогие мои, весь мир — храм. Храм Божий — всюду. «На всяком месте владычества Его благослови, душе моя, Господа» (Пс 102: 22). Нет такого места, где бы не было благоволения, благодати Божией.
Как же мы дожили до такого состояния, что исчезает все? Почему же мы мерзнем? Почему же холодно? Если «на всяком месте владычество Его», то, значит, это и в храме, и вне храма — в продолжении храма. И мир является как бы вливающимся в храм. И под покровом храма — под каким покровом? покровом небесным, покровом необозримым — все мы, все люди, все человечество призваны к жизни.
А где же, где же эта жизнь? … Что же это такое? Бросают бомбы, даже не думая, куда бросают… Почему эти люди так ведут себя? Что-то такое помутилось. Что-то страшное происходит. Когда я читаю в газетах добрые вести, хорошие вести, в это же время у меня звучит как будто колокол в моем мозгу: старик, это все так, но ты разве не чувствуешь, как загорается земля?.. Все слышу. Душа разрывается…
Как же мы пришли к такому положению? Почему сейчас, когда жатва уже поспела, когда уже многие жнут ее, мы, верующие люди, мало что делаем? Жатвы много, поэтому много надо труда, много надо терпения, много надо любви и много нужно самоотвержения в жизни настоящей. Вот сейчас — выйдешь из храма, и тут же ты нужен. Как кто? Как отец, как мать, как ребенок. Только сердце твое должно быть открыто, должно быть исполнено благости Божией.
А как ты выходишь из храма? С чем ты идешь? Холод, холод сковывает тебя, и ты мрачный приходишь домой, и там у тебя беспорядок. Как же тебе согреть других, когда ты сам — сосулька? И так идет вся жизнь христианина. Это очень тяжко.
Как же могло случиться, что только теперь как будто бы есть вот у нас маленький храмик, маленький приход, не приход даже, у нас прихода нет, у нас община маленькая, и здесь мы как-то пытаемся еще что-то создать? А почему же раньше все это не делалось? Почему же мы так оскудели, что допустили до такого страшного развала свою духовную жизнь в прошлом? … Где мы, христиане, были-то? Что же делали? Вот об этом и скорбит душа моя, ибо мы, дорогие мои, ушли, ушли от Христа, от пути Божьего. Как же это случилось? А случилось это потому, что страсти мирские, страсти порочные овладели нами, подчинили нас себе… Мы были с помещиками… мы были с богачами… Вот, народ, видя это, и оскудел, оскудел и отошел от церкви. Он ушел в обрядность. Сама же жизнь церковная, само Тело Христово, само созидание храма Божьего внутри нас — оно было в нас убито.
Народ пошел в обряд. Крестины, венчания, погребения — вот внешняя форма выполнена, и все. А о том, что Крещение — это приобщение ко Христу, и что вся жизнь наша должна развиваться в этом духе, об этом мы и не думали. Почему? Потому что те, кто вас учил, кто вами руководил, то есть мы, духовные люди, мы, священнослужители, старались даже как-то отвлечь вас от этого. Мы как бы загоняли вас в обряд, как в тупик, лишь бы вас чем-нибудь поразить. Поразить чем? Величием. Ну, храмы величественные, богослужения величественные, протодиаконы, от голосов которых потрясались стены… И мужичок, видя все это, как бы сам себя терял. Он уже не мог даже это воспринять. Он — уходил, говоря: «Да, нужно покрестить ребенка, нужно, конечно, это обязательно сделать». А дальше что? «Пойдем лучше в монастырь, пойдем куда-нибудь — искать Божия человека, искать где-нибудь правды».
И вот началось по земле русской хождение, хождение, хождение… Придут в монастырь, побудут там денечек, другой, третий, идут дальше, и уже в самом хождении этом, в самом как бы умственном восприятии того святого места, где они были, они уже как бы успокаивались: «Ну, хорошо. Есть еще правда, есть еще… где-то можно отдохнуть», и вновь возвращаются к себе на тяжкий труд.
Вот так и жили, пока не пришел час. Пока не взорвалось все это и всех нас не расточило. Вот так нас Господь наказал, что до сих пор мы не можем опомниться. Мне страшно становится. Я не знаю, опомнимся ли мы или нет. Ведь мы серьезно приняли то, что по существу — совсем не то, что нужно.
Вот, я сходил в храм, вернулся, окунулся в жизнь — и все. Да не это нужно для нас. Нам нужна постоянная жизнь во Христе, чтобы храм Божий, который внутри нас, освещал всю нашу жизнь. Но как он может ее освещать, когда кругом такие переживания, когда Христос совсем не нужен, молитва не нужна, верующих людей считают людьми отсталыми? Мы слабенькие, очень слабенькие, устоять нам очень трудно, а в то же время мы чувствуем, что это нужно, для жизни нужно, для всех нужно, и особенно нужно теперь для устроения нашей жизни.
Благодать Христова, освящающая нас, преображающая нас, делающая нас подлинными людьми, она совершенно необходима. Но в ком звучит эта благодать? Покажите мне такого человека. Если где и заметен этот огонек, он — завален, его и не видно. А что видно? Такой разброд какой-то на наших глазах. А там — ждут нас.
Так что же? Кого же нам винить за это? Дорогие мои, когда ставится вопрос о том, кого винить, то на этот вопрос один ответ: винить только самих себя.
Я всей душой верю в то, что подлинная Христова любовь, подлинная любовь к исполнению заповедей Христовых нужна сейчас — все это нужно как воздух. И если этого нет у нас, и если мы к этому неспособны, то пусть закроются мои глаза. Что делать? Я люблю свою родину, люблю свой народ, я преисполнен этой любви, я делаюсь молодым, когда мне нужно послужить своему народу. Но послужить таким, каков я есть, как сын Церкви, как сын, исповедающий Христа, как сын, для которого эта жизнь является приготовлением к вечной жизни. Без вечной жизни для меня нет жизни. А в эту вечную жизнь и новая жизнь вписывается очень хорошо.
Новая жизнь нам теперь открылась, и мы должны это признать, что действительно новая жизнь открылась нам. Раньше никогда не могли бы мы так говорить, как говорим сейчас. Раньше никогда не были открыты нам те язвы духовной жизни, которые теперь так смердят и отвращают людей от нас. Все было скрыто, прикрыто золотом, все было прикрыто богатством, шумом и всякими другими внешними украшениями.
А теперь все обнажилось, и за одно это мы должны благодарить Бога. По крайней мере теперь мы узнали, как мы бедны, узнали, что мы наги и что нечем нам прикрыться. Потому что прикрыться нам можно лишь благодатью Христовой, которая ткется через любовь ко Христу и через исполнение заповедей Христовых. Одна надежда на то, что выстрадаем мы эту любовь, эту жизнь. Выстрадаем! Господь поможет нам. И верится мне, что будут новые люди, за нами придут. Я столько раз себе говорил: «Сзади тебя идет другой — в белой одежде. Он сделает несравненно больше того, что делал ты, будучи в лохмотьях. Не падай духом, потому что ты уже слышишь, как идут, идут эти новые люди. Новые люди, которые освобождены от той слепоты, в которую нас вогнала ужасная старая жизнь. Они по-новому посмотрят на жизнь, по-новому посмотрят на Христа, по-новому почувствуют святую Церковь, и это их укрепит, и они найдут свое место для служения Богу в этом трудном, тяжелом, но божественном мире». Эта надежда даже в самые трудные моменты моей жизни не покидает меня.
Дай Бог, чтобы она, эта надежда, укреплялась бы в вас, и мы всеми силами будем стараться подвигаться вперед, закрывая глаза на все то, что искушает нас, закрывая глаза на все темное и черное, и только лишь одно имея перед собою — Христа, благодать Христову, Пречистую Матерь. И что? И желание послужить в этом несчастном, но в то же время и божественном мире.
Да хранит вас Господь!
Аминь.
Еще хочу несколько слов сказать. Не бойтесь скорбей. Скорби спасительны для нас, умягчают наше сердце и раскрывают перед нами радость. Скорби необходимы для нас. Только их нужно без ропота нести — нести и благодарить Бога.
Они необходимы для нас, чтобы нашу душу, наше сердце смягчить. Мы очень грубые, мы мало жалеем друг друга, а между тем ничего так сейчас не нужно в жизни, как милое сердце. Ничего!
Жалейте, жалейте, без конца жалейте друг друга, чтобы всякий вздох скорбной души, такой безутешный, всегда находил в вашем сердце место.
«Милости хочу, — Спаситель сказал, — а не жертвы».
Простите меня.
29 января 1975 г.
Слово о страдании и сострадании
Из проповедей в храме покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове
Сегодня я расскажу о нашей беседе, вернее о моей беседе, беседе отца с сыном.
Сын спросил меня: «Отец, а какой дар имеет сострадание, которое люди не изживают?» И сказал, что в каждом человеке есть дар Божий. И говорил, что в каждом человеке есть правда, частица Правды Божией, искра Божия. «Но какой же дар Божий имеет сострадание?» «Сын, ты мне задал вопрос, который многих волнует, многих смущает и многим приносит тяжелые переживания. Без страданий жить невозможно. Спаситель сказал: «В мире сем скорбни будете». Если вы видите человека, живущего без скорби, не знающего страданий, не осуждайте его, но вздохните о нем поглубже, ибо этот человек не знает сам, куда он идет.
Скорби — самые разнообразные. Страданий бесконечно много. И великие страдания, и малые страдания. И от болезней, и от тесноты жизни в семейных ли условиях, или от недостатка материального, или от тоски душевной, или от каких-нибудь болезней. Ведь мы говорим, что человек страдает запоем. Обратите внимание вот на это. Мы говорим — страдает запоем. И когда мы так говорим, мы как бы сочувствуем ему. В то же время мы знаем и другое слово, которое произносим тогда, когда у нас терпение иссякло. И мы говорим: «Человек — пьяница». Говоря так, мы уже погрешаем, мы бросаем камень, последний камень в человека, который едва стоит на ногах. А когда говорим «страдает запоем», тогда мы как бы вместе с ним сострадаем.
Вот вчера я услышал от одного своего любезного, дорогого сына такие слова: «Ты знаешь, отец, как я страдал, когда меня угнетал запой. Я брал стакан с вином и со слезами обращался: «Господи, спаси меня», а сделать ничего не мог. И выпивал его». Я вам об этом говорю для того, чтобы вы поняли, что никогда нельзя осуждать человека, нужно всегда ему сочувствовать, сопутствовать и вместе с ним пороком этим как бы подавляться. Но не подавляться, а, согнувшись вниз, приподняться и с Божьей помощью вместе встать и победить искушение. Апостол Павел говорит: «Все мне можно, да ничто не обладает мною». Если что-нибудь обладает нами, то мы должны это отвергнуть.
Я говорю о страданиях. Может быть, мне и не удастся высказать вам все, что хотелось бы, потому что страданиями переполнена жизнь, и нам надо научиться слышать эти страдания. Тот, кто живет беспечно, тот, кто живет с довольствием, — Бог с ним, пусть он так живет, нам с ним не по пути. Нам по пути с теми, кто воспринимает именно страдания человеческие, их принимает в свое сердце, их топит в своей, не в своей, а в Христовой любви. Вот жизнь, достойная человека. Я не знаю, что мы сделали с человеческой жизнью. Я просто не понимаю иногда. Мы — как безумные. Белое — мы говорим черное. Черное — мы говорим белое. Вот так мы и живем, ходим, так и в семьях своих, и где угодно. Так и в отношении страдания. Страдания — их надо всегда слышать, ибо тот, кто страдания слышит, тот оттягивает к себе, к себе зло мировое.
Дорогие мои! Не удивляйтесь тому, что я вам говорю. Вы можете слышать больших людей, великих людей, их прославляют на всех перекрестках, они кричат, шумят, славословят; когда они умирают, за ними толпы людей идут, над могилами их ставят памятники. Не то, не то. Вы пойдите, послушайте. Вы послушайте, где стонет душа человеческая, где стонет она, беспомощная, беззащитная, где стонет она, и в стоне своем взывает к Богу. Она только в Нем одном имеет отраду и спасение. Многострадальный Иов был непорочный, богобоязненный, справедливый, и уклонялся от зла. Он был богат, у него было семь сыновей, три дочери. И вот однажды пришли к нему сыны Божии, а среди них и дьявол. Господь спросил его: «Откуда ты пришел?» Он ответил: «Я обошел землю». «А видел ли ты праведного Иова?» «Видел. Но что же ему не быть праведным, когда Ты огородил его таким благополучием. Вот лишу его, благословит ли он Тебя?» Господь сказал: «Все, что у него, отдаю тебе». И Иов лишился всего — и сыновей, и дочерей, и всего богатства. И снова пришли сыны Божии к Господу, и среди них снова дьявол. Господь спрашивает: «Ну что, откуда ты пришел?» «Я, — говорит, — землю обошел». «А видел ли ты праведного Иова?» « Видел». «Ну что он?» «Кожу за кожу, а за жизнь свою все отдаст. Возьми у него жизнь, он проклянет Тебя». Господь сказал: «Дам тебе его. Только душу его не отдам». И вот Иов был поражен. Поражен был проказой, опорошен до темени. А прокаженных в то время выносили за город, и там на гноище они оставались. И задумался Иов, и восскорбел он всей душою. Что же с ним произошло? Он ведь боялся Бога, боялся греха, и вот вдруг с ним такое случилось несчастье. А в это время приходит жена его. Она лишилась крова, детей, страдает, а тут еще муж, на глазах червями уедаемый. Каково ей смотреть? Хоть бы муж-то умер. Она ему и говорит: «Похули Бога и умри». Она сказала так потому, что Иов только Богом и жил, и полагала, что если она оторвет его от Бога, ему будет не на чем стоять и он умрет. Иов же ответил ей: «Ты говоришь как одна из безумных. Благая приемлем, — говорит, — а злая не стерплю ли?» И остался непоколебим в своей вере и преданности Богу. Пришли три друга Иова, чтобы утешить его, и его не узнали, а когда узнали — возрыдали, разорвали одежду, посыпали пеплом главу, сели около него и семь дней сидели все молча. Сидели, страдали и думали: что же случилось? Наконец, один из друзей сказал Иову: «Как же это так — ты укреплял слабых, утешал страждущих, помогал, а сейчас тебя постигли такие бедствия? Разве Бог карает праведников?» И взывает к нему, чтобы он признался в грехе и не отверг бы от себя испытания. Жена отошла, друзья отошли, он — со своей совестью, один. Только Бог, Бог, Который его оставил…
Каждый из вас был у постели умирающего. Когда человек — смертельно больной, мы мало что понимаем. Мы мало понимаем то, что в это время человек уже уходит в иной мир, он уже тот и не тот, он смотрит теми же глазами и в то же время эти глаза уже не те. Он видит людей близких своих не так, как видел всегда, они уже не те, они иные. Потому что он сам иной, он находится на грани между этой и иной жизнью. Ночью ли, на рассвете ли, днем ли он остается один на один с Богом, и в это время его испытывает Господь. Испытывает Господь — не то чтобы Он хочет испытать, нет, но такая Премудрость Божия, ведь и Сам Спаситель в Гефсимании, вы знаете, молился, и на Кресте: «Почему Ты оставил Меня, Отче?» Ведь были у Спасителя такие мгновения, когда Он в человечестве Своем был оставлен всеми. Вы знаете, что апостол Петр даже бежал. Мы все идем крестным путем, мы все за Христом идем. Сознаем мы это или не сознаем, но для всех путь один. Так вот, когда мы идем уже ко Христу, то бывают такие моменты, когда, кажется, и Христос как бы оставляет нас. Это тяжкие минуты. Близкие — они часто не понимают, они около умирающего, но говорят своим обычным языком, не понимают того, что этот момент — священная минута. Перед человеком открывается иной мир, он уже не тот. Его надо окружить любовью, тишиной, в эту минуту нужно забыть о себе, как бы слиться с ним. Ах, дорогие мои, как мы бываем жестоки! Как мы бываем бесчувственны, когда перед нами лежит страдалец!
Так вот, дорогие мои, талант, дар Божий, вот в том человеке, который имеет безнадежные болезни, в которых он не повинен. В этих болезнях он только к Богу обращается и от Него не отрывается. Он не возбуждается, он не раздражается, он не ищет виновников своего тяжелого положения. А вы знаете, это редко бывает. Он всех покрывает любовью, он всем все прощает, он весь, весь как бы уходит в Господа. И вы знаете, что я вам скажу? Этими людьми гнев Божий отводиться от нас. Они предстательствуют перед Господом за нас. За ними, когда они умрут, пойдет, может быть, несколько человек. На могиле их поставят, может быть, крестик. Кто знает?
Но бывает и страшнее. А страшнее бывает, когда стоящий около него думает, скоро ли он умрет? Умрет — будет легче жить, будет жилая площадь больше. Так вот эти-то страдальцы — самое драгоценное, это украшение, это то же самое, что звезды, которые блещут на темном небе, так и эти люди в земном море человеческой жизни. Но никто их не знает, никто о них не думает, и вот в этом и есть наше несчастье. Около них нам нужно было бы останавливаться, к ним нужно было бы прислушиваться, от них нужно питать свою душу, а там, где пиршество, где довольство, где люди живут беззаботно и кости их полны жира, там делать нечего. Если бы только были весы! Весы… У нас есть весы, но у нас все порочное. И весы-то порочные. Мы что-то взвешиваем. Я имею в виду духовные весы. У нас показывают весы одно, а на самом деле — другое. Так вот если бы на одну чашу весов положить все то, что люди так возносят, о чем люди так шумят, все их дела, а на другую чашу положить тихие страдания людей, то человеческие весы, конечно, эти самые мелкие страдания — они их и не заметят. А между тем, на настоящих весах, на весах Правды Божией вот эти слезы, воздыхания людей, вот эти страдания, безвинные страдания — они весят столько, что перед ними все те большие дела, которыми люди занимаются, — ничто. Часто говорят: «Как же, умрет человек — от него останутся дела, они его прославят». Да, слов нет, труд — священное дело, и работать надо. Нужно это общее дело, и оно нас объединяет, оно созидает нашу внешнюю жизнь. Но, дорогие мои, когда человек уже приближается к концу, то между ним и делами его проходит раздел. Он все дальше, дальше уходит, а дела идут вперед. Он изобрел машину, а эта машина его уже старой стала, изобрели новую. Он построил дом, а этот дом уже разрушают, строят новый. И о человеке вспоминают, что он нужен, но он-то видит, что все он отдал, чтобы все это строить и созидать. Проходит жизнь, он остается один на один со своей душой, и вот тогда он только и поймет, что все дела, все труды священны, но они священны тогда, когда они вписываются в вечную жизнь, когда они под покровом Божьим, когда они связаны с любовью, с самоотверженным служением друг другу и устремлены к вечности. Вот тогда только и можно дышать, а без этого — без этого мы тяжко дышим. Мы мечемся, мы обижаем друг друга, толкаем друг друга. И почти не понимаем…
Так вот, дорогие мои, не на пиршество нас Господь призвал. Господь призвал нас к святым трудам. Господь призвал нас к тому, чтобы мы были покрепче связаны друг с другом, особенно тогда, когда скорби, страдания кого-нибудь из нас подавляют. О них думать, к ним стремиться. Вы что думаете, Бог поругаем бывает? Нет, Бог поругаем не бывает. Но если прожить жизнь, и заткнуть уши, и не смотреть туда, где стон страдальца, то, дорогие мои, тяжело подумать о конце жизни каждого из нас. Да хранит вас всех Господь.
Спасибо.
И еще одно слово о страдании
В прошлую среду я высказал основные мысли о страданиях и страдальцах. Первая заключается в том, что когда человек умирает, он иными глазами смотрит на тех, кого оставляет. И для него люди те — и в то же время не те, мир тот же — и другой. Вторая же мысль заключается в том, что страдальцы являются как бы магнитом, оттягивающим зло, которое душит человечество. Вот последнюю мысль, мне кажется, что я не совсем ясно вам высказал. В сегодняшний день мне хочется на ней остановиться.
В самом деле, подумайте: человек здоровый, сильный живет в веселии и забот не знает. А рядом — человек больной, страдающий. Ему не до веселья, ему — как бы только донести свой крест до конца. Где же здесь смысл? Я думаю, что вы согласны со мной в том, что в пределах земного мышления смысла здесь найти невозможно. Надо преодолеть притяжение земли, и тогда только это может стать понятным.
Вы знаете, когда человек больной или безнадежно больной, — он каким-то робким становится. Он и ходит-то не так, как все или как он когда-то ходил. Он боится отяготить людей.
Где же здесь смысл? Человек страдает, а вместе с тем как будто чем-то он и погрешил перед людьми, и боится, как бы их не обеспокоить. Это очень тяжелое сознание.
Я думаю, что каждый из вас мог наблюдать, как вдруг съеживается человек, и делается робким, и всякий его может обидеть. А рядом — здоровый, сильный, он думает только о себе и о том, чтобы в радости земной жить.
Но страдание бывает различное. Не все страдающие ткут нам вечную жизнь. Есть страдающие люди, которые страдают и рвутся вырваться из страданий, чтобы отомстить, чтобы злом ответить на зло. Бывает такое страдание.
А о другом страдании очень хорошо сказано в акафисте преподобному Серафиму: «… За обидящих тя Господеви моляся». Преподобного Серафима избили разбойники до полусмерти, и он молился о них. Вот другое страдание. Оно спасает нас от гнева, любовью покрывает всякое зло.
Я был очевидцем одного случая, который мне запомнился очень глубоко, хотя это и было давно. Мне пришлось быть у умирающего ксендза, католического священника. Даже запомнил его фамилию — Каплуновский. Умирал он в тяжелых условиях. Я видел его, был около него. И умирая, он проклинал Россию , он проклинал русских людей…
Вспоминается мне и другой случай. У одной старушки — мне пришлось с ней беседовать — рука отнялась. И вот она ее поглаживает и говорит: «Рученька ты моя, рученька. Сколько ты работала! Сколько трудилась! Ты ни дня, ни ночи покоя не знала. Что ж ты теперь такая у меня стала? Рученька моя, рученька!» Ах, дорогие мои, бывают такие переживания, которые все внутри перевертывают. Трудилась эта старушка в своей семье. Ее не любили, ее не жалели. Она не знала ни днем, ни ночью покоя. И вот не может она больше трудиться. «Рученька моя, рученька!» Вот вам еще одно страдание. Это страдание — святое страдание. И чем больше его в жизни, тем больше смилостивится над нами Господь, тем больше Его к нам благоволение.
Много ли или мало таких страданий святых? Если бы мы имели чистые очи, то знали бы о многих таких страданиях. Но очи наши затуманены грехом, и поэтому мы мало что видим.
Страдания, спасающие род человеческий, — это святые страдания. О них никто не знает, никто не слышит. Их даже стараются поскорее забыть, забыть об этих людях. Они-то и предстательствуют о нас пред Богом незримо, они являются нашими ангелами-хранителями.
Вот семья. В семье живут мать, дети, ну хорошо, если еще отец, муж, на что-то похож. Ну и мать, дети… Надо их накормить, надо напоить. Надо проводить их на работу. Надо встретить. А они придут — и доброго слова не скажут. И мать молчит, ничего не говорит. Они грубость ей скажут — она снова молчит. Она заболеет — ее не пожалеют. Так она и живет. А дети, да и отец, да и муж — ох уж эти мужья! — все думают: вот так как будто и надо. И того-то они не понимают, что мать, которая в своем сердце топит страдания всей семьи, — она является ангелом-хранителем для нее. Она, как духовный обруч, — связывает. Если этот обруч снять, то бочки нет — она вся рассыпается. И семья рассыпается, когда мать умирает. И вот только тогда семья начинает подумывать, что же они имели в матери. Была мать — была семья. Не стало матери — и нет семьи.
А кто знал, что она на себе несет? Дети могли и важные посты занимать. А она — ничего она не знала. Ночь, полночь, — а ей нужно приготовить, нужно всех успокоить. Пришел сын пьяный — ну что делать! Оплакала его. Пришел муж пьяный — ну что делать? Надо понести и это. И вот мать является тем страдальцем, который спасает семью. Как только она уходит, семья погибает.
Так что же нужно делать? Как же жить-то нужно? Нужно, чтобы каждый член семьи вносил в жизнь не только что-то материальное, не только то, что он заработал, а прежде всего вносил бы нравственный, духовный вклад. Вот если бы дети вносили этот вклад, эта старушка была бы радостная, и жизнь ее была бы здесь, на земле еще, приуготована к жизни ангельской.
Но, к сожалению, мы не так живем. К сожалению, каждый из нас думает больше всего о себе самом. Что же может быть в семье? Что же может быть с соседями? Что же может быть с обществом? Что может быть с государством? Что же может быть в жизни человечества? Ведь жизнь-то человечества слагается из чего? Из жизней каждого в отдельности. Ведь если каждый в отдельности не будет действительно человеком, Божиим созданием, то как нас ни сажай, как нас ни называй, все равно, кроме отравы, мы ничего вносить в жизнь не будем.
А Господь нас призвал-то как великое украшение, лучшее украшение жизни. Ну какое же мы украшение? Мы же — горе. Мы же жестокие, безрассудные люди. вы послушайте только, как стонет природа от нас. вы никогда не слушали? Послушайте. Вы знаете, что подсчитано, сколько слонов на земле, подсчитано, сколько тигров, сколько львов. Подсчитано, сколько шакалов, сколько волков и, вероятно, даже подсчитано, сколько зайцев. А, может быть, — и мышей! Все подсчитано. С вертолета все учтено, и человек решает, когда кого нужно отловить, когда нужно убить, когда и что нужно…
А что делается в наших исследовательских институтах? Знаем ли мы это? Нет. А там — сплошной грех. Хотя этот грех-то прикрывается тем, что он во имя человека, но чем бы ни был прикрыт грех, он всегда остается грехом. И стон этих несчастных животных, мучения, которые они переживают, — и это опять-таки «ради человека». Все — «ради человека». Всякий ужас, всякое злодеяние — все «ради человека».
Так вот, дорогие мои, когда все это возьмешь во ум, когда слышишь этот стон старушки: «Рученька моя, рученька!», когда видишь бесприютную собаку, когда во дворе к тебе бездомная кошка бежит и жмется к твоему сапогу, — когда прислушаешься к этому в тишине, в молитвенной тишине, то страшно становится в жизни.
Мне, дорогие мои, приходится часто вам говорить не то, что вы слышите обычно. Но ведь я христианин. Не для того я поставлен здесь, чтобы говорить вам то, что вы можете слышать и на улице. Я поставлен для того, чтобы говорить по совести своей, говорить то, что Бог вразумляет меня, недостойного, сказать вам.
Я сознаю, что я делаю, и я сознаю, что это необходимо, как воздух , чтобы отдушина была, которая освежала бы воздух нашей жизни. Вот этой отдушиной должна быть святая Церковь. Но, к сожалению, мы оглохли, и неспособны слышать — ничего.
Почему я так говорю? Я говорю потому, что это мне внушает моя вера, православная христианская вера. Она — бесконечна. И вера — она заложена в природе нашей души.
Я не могу не верить. Я не могу не говорить о Боге, о творце. Почему? Не потому, что меня кто-то этому научил, — нет. Я должен вам сказать, что когда я был мальчишкой и учился в реальном училище, я не очень любил церковь. Не очень по душе мне было там. А вот Господь привел всю жизнь отдать Церкви. Почему? Потому что душа искала, бегала, металась. Где? Что? Где же правда? А я имел возможность ее наблюдать везде.
Не было ни одних дверей в Москве в двадцатых годах, которые, скажем, были закрыты для меня. Они все были открыты. Самых высоких людей — мыслителей, писателей — я видел, слушал, приглядывался к ним. Но нет, не то. Вера меня тянула, тянула она — к Богу.
Мне говорят теперь, что вера — это предрассудки, наука — вот что определяет жизнь. Ну, хорошо. Если она для кого-то определяет — пусть и определяет. Но для меня она не может ничего определять. «Почему же для тебя не может определять?» Да потому. что наука — это следствие нашей мыслительной способности. А мыслительная способность — только частица и, может быть, небольшая частица всего нашего естества. И я не хочу следовать за своим умом, ибо он — короткий. Если я за ним пойду, он меня заведет не туда, куда нужно. И если кто хочет идти туда, то обычно заводит он совсем не туда, куда хотелось бы. И чтоб вспомнить это, нужна все-таки какая-то правда. И эта правда тогда изобретается. И вера изобретается. Вера и правда. Это совсем не Божественная правда. Эта не та правда, которой может дышать человек. И вот поэтому, дорогие мои, и нужно блюсти в себе такую способность, чтобы наше внутреннее ухо способно было воспринимать жизнь вселенной и чувствовать в ней дыхание Божие. А это можно только тогда, когда наша жизнь — вся — отдается на служение Богу, служение в том месте, на котором каждого из нас Господь поставил.
Да хранит вас всех Господь!
Слово о страдании детей
Вот, дорогие мои, праздник Божьей Матери, Ее иконы «Утоли мои печали».
А сейчас кое-что я попытаюсь вам высказать. Как я уже сказал в тот раз, сын меня спросил: «Ну хорошо, когда взрослые страдают, тогда ты, отец, объяснил, что в этих страданиях они сближаются с Богом. Они очищают свою совесть, и для них эти страдания спасительны. И призвал нас, живущих, постараться понять, какую священную минуту переживают те, кто умирает. Ну а что ты можешь сказать, когда видишь безвинных страдающих младенцев? И неизлечимо страдающих? Какие они грехи-то совершили? Они Бога-то не знали, они жизни-то не знали, знали лишь одни свои страдания. Я, — говорит сын, — видел людей, пораженных тяжелой болезнью — волчанкой. Я смотрел на них, и сердце мое содрогалось. Они безропотно давали кровь, и большими дозами, они уколы с радостью принимали и даже огорчались, когда долго к ним не приходили. Им казалось, что чем больше у них возьмут крови, тем скорее они выздоровеют. Они не знали того, что не столько их лечат, сколько на них учатся, чтобы лечить других. Ну скажи, отец, где же Бог? За что же они страдают?» Вопрос тяжелый, но вопрос неотступный для каждого из нас. Я говорю сыну: «Вот что, сын, разговор о Боге мы пока оставим. Поговорим о другом. Когда ты видишь страдальца, ужасаться не стоит. И излишне страшить других тоже не надо, ибо это плохая помощь для ребенка. Ну что толку: ужаснемся, потом пройдем мимо и забудем? Нам это свойственно: ужасаемся, волнуемся, браним кого не надо, а потом сразу разворот жизненный — и следа нет. А ты лучше скажи мне, сын мой, что мы можем сделать для ребенка, который так страдает? Ну положим, что ничего нет, но все-таки же страдает ребенок, как ему помочь? Помочь ему тем, «что вскоре ты умрешь»? Или: «какое несчастье, что вот такой родился ребенок! Ну ладно, у нас родится другой, а этот? Как-нибудь». Как это — как-нибудь? Ведь этот же родился ребенок, он не сам по себе родил себя. Как же так можно?! Этот — как-нибудь, а второй ребенок будет, видно, хороший, здоровый? Нет, так нельзя. Ребенок страдает. А остановиться около него? Ни с места. Но завтра ты ведь так же можешь страдать. И мимо тебя пройдут. И никому ты не будешь нужен. Останься. Срастворись страданию ребенка. Забудь себя. Люби его. Мучайся вместе с ним, так чтобы он через твою любовь почувствовал Бога. Тогда он, слепой, будет видеть, глухой — будет слышать, недвижный — будет двигаться. Только люби его, не отходи от него, не оставляй ни на минуту. И когда ты увидишь на лице ребенка улыбку светлую, святую улыбку, то радуйся и веселися. Тебя Бог призвал к большему подвигу и к радости, нежели тех, кто высадился на Луне. Я не преувеличиваю. Да если бы мы все старались вызвать улыбку у страдающих и поставили бы главной задачей своей жизни улыбки вызывать у страдальцев! Оставьте все свои важные и великие дела, всё оставьте и вызывайте у страдальцев улыбки! Вот есть основная задача в жизни! Всех людей. А они летают на Луну. Чего вы на Луне достигните? С чем вы туда явитесь? Если бы мы научились вызывать улыбки у младенцев, то мы бы приехали туда и спросили: «Где тут у вас страдальцы?» «А что?» Если есть, то мы кинемся к ним с сострадающей любовью». А так что мы полетим туда? Что нам там скажут? С чем вы к нам прилетели? С термоядерной бомбой? С тем, что вы ненавидите друг друга? С тем, что вас гордыня поработила? Отправляйтесь на свою Землю и доживайте там свою жизнь.
Вызывать у страдальцев улыбку — вот наше призвание, наш долг, самое дорогое, самое важное дело жизни. А куда ни посмотришь, везде видишь что-то странное и непонятное, непонятное разуму. Мне кажется, что это какая-то ужасная чепуха.
Вот мы вызвали улыбку у младенца, и мы радуемся вместе с ним, он нас признал. Он лежит в гипсе, у него позвоночник переломан, потому что от волчанки кости такие слабые, они поломались, и его положили в гипс. Он лежит, а сейчас он улыбнулся, — какая радость! Это Пасха для нас! И мы благодарим Бога за это. Вот так будем его утешать. А мальчик спросит: «А что вы будете со мной дальше делать? Вы уйдете? Уйдете, а я что?» Что вы ему скажете? А ничего, ты умрешь, и тебя закопают, и все? Мы же ему сказать это не можем. А как же тогда что-то делать? Вот он у нас страдает, бедняга, а мы что? Стоим около него и думаем — скоро же он умрет. Вы знаете, какая-то ужасная ложь во всем этом есть! Нестерпимая ложь! От одной этой лжи можно задохнуться. Ждать смерти ребенка! Нет, мы так не будем. Мы будем по-другому. Твои страдания — это мои страдания. Это наши общие страдания. Это страдания всего мира. Я знаю, что тебе тяжко. Я знаю, что ты ничего не понимаешь. Тебе вечностью кажется каждая минута, ну ничего, ну подожди, ну покрепись. А ты знаешь, что жизнь бесконечна? Ты знаешь, что есть вечность? Что Бог есть. Улыбнись, мальчик. Ты знаешь, что твои страдания — страдания общие? И знаешь ли ты, что в страданиях спасается мир? Что страдания объединяют нас и открывают смысл жизни? А этот смысл заключается в том, что наше общее дело, общее для всех, — спасение всех. Мы друг с другом связаны воедино, мы неразрывны, мы отпускать друг друга ни на шаг не можем, у нас у всех одно призвание, и вся наша жизнь — как священнодействие. Не базар, не беготня по магазинам, не стадионы, — а священнодействие.
Приклоните ухо друг к другу, послушайте, как сердце страдает у каждого. Сегодня нет — завтра будет страдать, завтра нет — послезавтра будет страдать. А что — тяжко страдает? Тяжко! Но, крошка, крепись! Еще одно мгновение, ну еще одно мгновение, и все пройдет, и ты уйдешь в недра Господа, и там твое имя, священное имя твое — оно там раскроется в радости. И в славе Божией. Вот что надо сказать.
Ах, дорогие мои, так трудно сказать об этом! Вы знаете, когда пытаешься высказать то, что на сердце, высказать то, что откуда-то из самых глубин исходит, выражения, слова — очень бедные, и мало убедительные. Но ведь слова-то личность не отражают. Очень мало того, что можно было бы отразить. Но ведь чувства-то наши, разум, душа наша, все наше естество, — куда все это устремлено? Устремлено к жизни, а не к смерти. И когда мы думаем: «Ты, мальчик, умрешь, мы тебя похороним», то мы в это время совершаем предательство по отношению к ребенку. Мы в это время совершаем предательство по отношению друг к друга и предательство по отношению к самим себе. «Нет, крошка. Еще мгновение одно — и ты будешь в недрах Божьих. И там ты будешь нас ждать. Как я жалею, что раньше тебя не ушел туда. Я так тебя люблю, и я вижу твои страдания. Ты маленький, у тебя чистое сердце, и ты меня там от моих грехов — ну что ли защитишь». Вот как надо. Нет, мы со смертью дружить не будем. Христианина это не достойно. Это самое постыдное. Не смерть торжествует, а торжествует жизнь. Жизнь во Христе.
Сын спрашивает меня: «Ну как же! Ты говоришь, что это жертва, искупительная жертва. Как же это так? Что же, Бог такую жертву принимает, и требует такую жертву?» «Бог никакой жертвы не требует, сынок мой. Она Ему не нужна. Она нужна нам самим. Потому что мы от Бога отдалились в своей греховной жизни, и нам нужно преодолеть, очистить ту шелуху, которая на нас. Вот кому это нужно. А Богу это не нужно совсем. Он в любви нас создал. А нам такое испытание предстоит потому, что мы ведь сами вызвали его на себя. И чем больше невинных страдальцев взывают от земли, тем больше милость Божия изливается на нас». Сын говорит: «Отец, все то, что ты говоришь, меня взволновало. Но это непостижимо для моего ума». «Что делать, дорогой мой! Правду Божию нельзя сделать приятной для улицы. Правду Божию нельзя оземлить. Толпа плохо воспринимает ее. Она мало способна ее воспринимать». «Но что же делать?» «Исправить здесь ничего нельзя. Мы оглохли от страстей греховных. Они нас приглушили. Они создали для нас такой низкий потолок в жизни, что мы просто ходим скрючившись, а сами этого не понимаем. Мы как будто бодро ходим, а на самом деле мы скрючившись ходим. Вот нужно, чтобы толпа перестала быть толпой, а это возможно тогда, когда каждый обретет свое имя, священное имя, данное ему Богом. Не толпа, а люди, дышащие в Боге. Вот когда они свои имена найдут, тогда им откроется и путь познания Божественной Правды. Тогда и непостижимое станет постижимым. Тогда не будем мы с вами содрогаться от ужаса, стоя у кроватки страдающего младенца, а будем спешить, как бы нам впереди него встать. И там принять его на свои родительские руки.
Друзья мои, вы знаете, мы все — родители друг другу. Не только те родители, которые родили младенца больного и говорят: «Ну ладно, это такой, а вот второй будет хороший». Мы все — родители друг другу. И наша святая обязанность всегда идти к страдающим, для того чтобы их трудный путь смягчить. Да хранит вас всех Господь.
Спасибо.
Слово о любви и ответственности христиан
Когда душа в печали, что с ней делать? Не вырвешь ее и не поставишь на ее место другую душу, веселую и беззаботную. Какая есть, такая и есть. И от печали души печаль и исходит.
Но в печали и радость заключена, и нет радости без печали. Радость без печали — только лишь призрак радости: рассеется — и ничего, кроме горечи, не останется. А радость, которая проходит через печаль, — она светлая, она оплодотворяет нашу душу, она укрепляет нас на пути ко спасению.
Вот мы здесь с вами о многом беседовали и многое мы с вами утвердили для себя незыблемое. Мы признали с вами, что наша жизнь, наше общество, наша родина — неделимы. Те, кто хочет поделить их на части, эти люди нам чужды. Это не то, что для души нашей нужно, а то, что только отягощает нас.
К сожалению, мы много слышим, особенно со стороны, — с той стороны, которая находится за границей, — именно о стремлении к разделению нас. Но мы, христиане, не способны к этому разделению, ибо нам заповедал Господь быть во имя Его вместе, сказав: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот мы во имя Христово и едины. А если кто-то и не хочет призвать имя Божие, то это нас не должно смущать, мы должны остаться верными Христу.
Вот это, дорогие мои, мы всегда должны помнить. Мы не должны оправдываться тем, что, мол, мы-то христиане, мы-то верующие, а вот они — люди неверующие, и, следовательно, какое же может быть у нас единение с ними?
Единение у нас с ними в духе любви. Единение у нас с ними в том, что мы общими силами созидаем справедливую жизнь. У нас есть к ним полное доверие в том, что они именно к этому стремятся. А если это так, — а это именно так и есть, — то о каком же разделении может быть речь? Мы неделимы, и чем труднее нам, чем сложнее жизнь, тем крепче мы стоим на нашей неделимости. И вы знаете это, я вам как-то говорил об этом. Мне было трудно это сказать, потому что вы никогда этого, может быть, не слышали и не услышите, но я вам говорил и сегодня вам повторю это.
Прошедшие десятилетия часто были очень тяжелыми. Была борьба, было общее смущение и смятение, озлобление доходило до крайней степени. Много людей было погублено, много жизней и страданий осталось позади.
И все же, дорогие мои, когда вспоминаешь все это, то невольно в сердце просится голос: «И тогда мы были неделимы».
И те, кто остался в снегах далеких, и те, кто был на полях сражений, и кто бы в каких бы условиях ни был — все составляли и составляют единый народ. Я вам сказал, что и кости тех, кто остался где-то там, на далеком Севере, они к нам как бы вопиют и как бы говорят нам: «Братья! Так сложилась жизнь, что мы там остались, но мы с вами нераздельны, потому что мы были один наш народ, одна Родина».
Это, конечно, понять трудно. Очень легко сказать: «Ты — предатель, а ты, наоборот, такой-то человек». Можно очень легко сказать: «Ты — виновен, а ты не виновен», — и виновного судить-рядить. Это все очень просто и легко. А вот иметь такую любовь, чтобы вместить в своем сердце все и остаться верным Христу, и любви, и человеку — вот это, дорогие мои, очень трудно, но это и есть самое главное, к чему нас призывает Господь.
Я знаю, мне могут сказать: «Да что ты говоришь! Разве ты не знаешь, что эти люди были наши заклятые враги?» Я отвечу: «Все знаю. И знаю даже больше, чем вы знаете, но все-таки все мы — под одним Покровом. У всех у нас общая хижина, общая хата. Когда-то люди жили и говорили: «Моя хата с краю, я никого не знаю», — но это время прошло! Сейчас другое время. Хата наша — общая, крыша наша — общая, и нас связует воедино любовь и стремление к справедливой, святой жизни.
Опять слышишь: «Святой жизни?! Да какая там святая жизнь! И Бога не хотят помянуть, и церковь не нужна».
Знаю, все знаю. И больше вас я знаю — я понимаю, почему людям трудно произнести слово «Бог», я понимаю, почему им Церковь святая тяжка. Не Бог им тяжек, а тяжки грехи, которыми мы, христиане, в течение двух тысяч лет оскверняли землю, — и в это же время исповедовали Христа! Тут поневоле можно и возненавидеть Того, Кем мы прикрывали свои грехи!
Но ведь не Его же возненавидели, не Христа, не Бога ненавидят и ненавидели, а нас — людей, которые именем Христа оскверняли землю! И те, кто были рядом, кто не имел веры, видев, как мы оскверняем землю, видев, как мы используем Церковь для прикрытия всякого беззакония, думали, что здесь-то Бог и есть. Но какой же здесь Бог? Бога здесь нет.
В семнадцатом году случилась катастрофа. Я говорю вам — Катастрофа. Мне могут опять сказать: «Какая катастрофа, тогда было освобождение, начало новой исторической эпохи». Верно, я знаю это. Я больше это знаю и все-таки говорю: «Была Катастрофа». Почему я так говорю? Да потому, что я вас больше люблю, потому я и говорю, что была Катастрофа. Разве вам нужна была кровь человеческая? Кому она была нужна? Кому это было нужно, кому нужна гражданская война, кому все это было нужно? А вместе с тем — это было неизбежно. Почему неизбежно? Да потому, дорогие мои, что путы греховные опутали, до такой степени связали нас, что нужно было их рубить.
Неужели вы думаете, что страдания людей кому-то нужны? Нет! Это наше несчастье, это наша беда.
Ведь если бы мы с самого начала христианской эры оставались верны евангельской истине, если бы мы положили это законом своей жизни, то зачем нам нужно было бы проливать кровь? Зачем одним людям обогащаться за счет других? Зачем одним людям мучить других и создавать свое благополучие? Зачем христианам резать друг друга? Это не нужно было бы, ведь это противно душе человека, ибо «душа человеческая — христианка по своей природе», и ей это чуждо, и если это случилось, то это катастрофа, это несчастье, это наше общее горе и общая беда.
Вот мы строим теперь новое общество. Много, конечно, таких людей, которые смеются над этим, — пусть смеются! Но мы-то, люди Христовы, любящие человека, разве можем мы смеяться над этим? Нет, мы не только не можем, но и о другом я беспокоюсь, и другое меня мучает. Вот, я представляю себе, вдруг наша новая жизнь — она не будет создана, мы не сумеем так согласовать друг с другом свои силы, так полюбить друг друга и так полюбить правду жизни, что зло нас поработит. Что мы тогда скажем?
Найдутся люди и скажут: «А вот там был такой-то человек, он так много зла причинил, что вот и получилось такое-то дело». Найдутся и такие, которые скажут так: «Это все потому, что были бюрократы, — или еще какие-то неправильные, нехорошие люди» Нет, дорогие мои, мы так не скажем. А скажем так: «Была попытка создать справедливую жизнь, но она не удалась». — «Кому?» — «Народу». — «Какому?» — «Русскому народу и тем народам, которые вместе с ним ее создавали». Это обо всех нас, а не о ком-нибудь в отдельности, ибо все мы будем повинны в том, что пережив так много испытаний и уже познав теперь, как ужасна жизнь в условиях неправды, допустили в своей жизни что-то такое темное, что нас разъединяет.
Вот, например, в семье неблагополучно. Что мы тогда говорим или что слышим? — «А вот муж был такой-то», или наоборот: «Жена была такая-то», или: «А вот там была теща, там была свекровь». Кто-то, обязательно кто-то был повинен. Вместо того, чтобы семье сказать: «Слушайте, друзья мои, в нашей семье неблагополучно. Давайте мы подумаем — в чем тут дело, и общими силами преодолеем этот недостаток, эту неприязнь друг к другу, чтобы был мир и согласие, чтобы была тишина».
И если у нас вообще в жизни беспорядок, то, ведь, дорогие мои, мы всегда говорим, всегда указываем: «Вот такой-то виноват». Вот, например, сейчас, в сегодняшний день, шел я сюда, в храм, подходит ко мне одна женщина и говорит, что она больна, что то-то и то-то у нее. А я вижу, что ничего она не больна, а сказала мне несколько слов и потом, вдруг, говорит мне: «Вот моя соседка такая-сякая…», — и как только она мне это сказала, я сразу же понял, что болен-то у нее дух, нет у нее христианского сознания, и поэтому она уже находится на неправильном пути, на таком пути, который ничего, кроме горя, ей не принесет, если она не исправит свою жизнь.
Мы сейчас находимся в очень тяжелом положении, я говорю — мы, христиане. Мы очень много говорили о том, что церковная иерархия повинна в этом и что могут быть даже и слишком строгие слова в отношении ее. Мы говорили о том, что очень повинны в этом и господствующие слои населения, которые для защиты своих интересов использовали Церковь как прикрытие. Мы много и об этом говорили.
Но, дорогие мои, нам — не судить! Суд Божий — он изрекается! И суд Божий обрушился на тех, кто своей жизнью осквернил имя Его. И наше дело — не судить, наше дело понять, что и мы с вами повинны в этом церковном разорении, мы — рядовые верующие люди.
Как мы могли такое допустить? Ну, представьте себе, что назначили меня в ваш храм. Я пришел сюда к вам и стал здесь служить в нетрезвом виде: сегодня послужил, завтра послужил, а потом стал приходить в храм и от меня попахивает водочкой. А вы смотрите и думаете: «Ах, что там», — и или в другой храм уйдете, или перестанете совсем ходить, или будете ходить и не обращать никакого внимания. Хорошо. Скажите, пожалуйста, будет ли вина на вас за то, что вы допустили такого священника в свой храм служить и не сплотились и не отвели его от храма?
Вы могли бы прийти в патриархию, и просить, и молить. Если бы там вас не услышали, не захотели бы услышать, то у вас есть исполнительный орган — приходской совет, и вы, как община, можете священника не пустить в святой храм.
Вы скажете: «Что делать? Как же быть?» — Молиться. Как молиться? По церковному уставу. Господь научит, как молиться. Раньше в египетских, ливийских и других монастырях были скиты, в которых жили монахи — то есть такие же обычные люди, как каждый из вас! — и они собирались и совершали утреню, вечерню, полунощницу — все так, , и молитва была у них вдохновенная! А для нужд церковных они приглашали к себе священника, который приезжал и совершал Евхаристию и причащал их там, и если было нужно, то еще какие-то таинства совершал, то есть совершал то, что простой человек уже не может совершить. Значит, дело-то в чем? В том, что если бы вы сами были на высоте своего призвания, то вы были бы стойки, устояли бы в таком искушении, и не допустили бы, чтобы у престола Божия находился священник, который разоряет храм Божий!
Это я для примера говорю вам. Ведь это же началось две тысячи лет тому назад. Ведь Константин равноапостольный — который, вернее, называется равноапостольным — который сделал церковь господствующей, ведь он не случайно это сделал. Ему это было нужно для укрепления своей империи, поэтому-то ему вера единая была нужна. «Августу единоначальствующу на земли… многоначалие преста», то есть как он, цезарь Август, император римский, един и многоначалие перестало, так вот и благодаря вере Христовой, христианской вере — многобожие прекратилось. Ему это было нужно для укрепления своей империи. Но разве это нужно было христианам? Зачем это нужно было христианам? Как они могли быть господствующими?
Если бы было иначе… Когда я думаю обо всем этом, я вижу, что здесь был уже упадок христианской веры, что в самом христианском обществе уже было разложение, уже желание какого-то господствующего положения, уже не хотелось идти тем узким путем, которым Господь призывает идти. Ведь у христианина нет широкого пути, у него узкий путь. А узким путем неприятно идти — то ли дело, когда широкий путь, открытый! А дальше — больше: сильные мира пошли в церковь, и пошла церковная жизнь уже совершенно в другом направлении — не туда, куда нужно.
Хорошо, а разве верующие люди — масса, сама масса — разве она не повинна в том, что чуждые, враждебные Церкви люди ворвались в нее и захватили власть над ней? Конечно, повинны. Каждый человек повинен. В разной мере — один больше, другой меньше, но всем нам нужно сознавать эту вину. Вина за горькое положение нашей церковной жизни лежит на каждом из нас.
Нам нужно помнить: когда есть непорядок в жизни, тогда прежде всего нужно искать вину в самом себе. И когда почувствуешь эту вину, осознаешь ее, тогда и путь жизни проясняется. Если же мы будем только бранить церковную иерархию, бранить каких-нибудь богатых людей, от этого ничего хорошего не будет, потому что церковная иерархия и после революции не только не улучшилась, но еще хуже стала. Богатых людей, правда, таких уже как будто нет, но мы все к богатству рвемся. Разве вы не чувствуете, как вот эта самая проклятая страсть стяжательства, как она лезет во всякую, в каждую щелку, и только чуть-чуть откроют щелку, она сейчас же рвется туда. Вот мысль о наживе — она очень нас беспокоит, она нас мучает. Если бы сейчас открыть все законы, то, знаете ли… Бог знает, что случилось бы с нами.
Я вспоминаю двадцатые годы. Тогда была такая новая экономическая политика — НЭП, и вот тогда была дана свобода такого обогащения. До сих пор, дорогие мои, передо мною люди, которые тогда вырвались вперед, очень быстро захватили уже лакомые такие куски и у них быстро стало развиваться дело. Ну и что дальше? А дальше — опять возвращение к старому. А это что значит? А это значит — уже окончательная погибель. Ну, и было прекращено это дело. Сейчас мы идем своим особым путем. Каким путем — нам, христианам, об этом не следует особенно размышлять. Потому что мы люди духовной жизни, и не нам учить, как нужно строить государственную жизнь, есть люди, на это поставленные, и Господь их вразумит, а наше дело любовью помогать им.
Так вот, дорогие мои, я и вам хочу сказать: перестанем отныне судить кого бы то ни было, будем прежде всего судить самих себя, имея перед собой закон Христовой жизни. Пусть это будет у вас всегда, начиная с раннего утра, — и дома, и в условиях служебных, и где бы вы ни были.
Наша совесть проверяется по евангельским истинам. Если есть отклонение — стой, остановись, дальше шага не делай. Почему? Потому что следующий шаг будет у тебя уже темный шаг, он приведет тебя к тяжелым последствиям, и ты можешь так запутаться в сетях вражиих, что уже и нельзя будет оттуда спастись…
Да хранит вас Господь!
«Мы пришли под Покров Божьей Матери» (4.01.67)
Прежде всего позвольте мне поздравить вас с Новым годом!
Дорогие мои, я хочу также поблагодарить вас за то терпение, которое вы проявили, слушая мои проповеди в последнее время. Я знал, что вам кое-что трудно будет воспринять, но тем не менее, побуждаемый любовью ко Святой Церкви и к вам, я должен был идти вперед, и мне казалось, что в прошлый раз мы как будто подвели итог и этой темы можно уже не касаться, но когда я остался один, то совсем по-другому все увидел.
Я почувствовал, что тема, которую я перед вами раскрывал, —бесконечна. Пока мы живы, она должна непрестанно раскрываться перед нами, ибо она вытекает из существа самой Церкви и из существа нашей жизни. Я понял также, что возложил на вас бремя очень тяжелое. Слова были простые, но когда я хотел ощутить на себе эти слова, то почувствовал, что слова-то очень и очень трудные. Я имею в виду те слова, которые мы должны говорить друг другу и должны говорить всем людям: «Ваши радости — наши радости».
Печалиться с печалящимися — просто, а радоваться с радующимися — искусство великое. И когда я «представил», как вы останетесь одни и попытаетесь это осуществить в жизни, то мне стало очень жаль вас, отечески жаль, т. е. жаль тех, кто действительно захотел бы осуществить эти слова в своей жизни. Я почувствовал, что эти слова подобны тяжеловесной штанге, которую пытается поднять человек, не обученный этому, и вот такую я вам штангу поставил, которую как бы поднять невозможно. Но штанга для спортсменов — материальна, ее поднимает тот, кто сильнее, и поднимает тогда, когда он в расцвете сил. Когда же он начинает ослабевать, то к штанге не подходит, ибо она для него неподъемна.
А наша штанга, духовная штанга, она совсем другая. От нас силы физической не требуют, но нужна духовная сила, а сила духовная познается в немощи. Как апостол Павел говорит: «Сила Божия в немощи совершается», — и чем как бы немощнее человек, чем больше жаждет Духа Святого, тем он сильнее и тем больше он может поднять.
Вот мне и жаль вас: сказать-то я вам об этом сказал, а не сказал того, что вы встретите на своем пути, что вас может смутить…
На днях я получил одно письмо, в котором мне пишут: «Отец Сергий, только в последнюю вашу проповедь я поняла то, что не могла понять за все это время. Я все понимала, но как понять, что «ваши радости — наши радости», — этого я понять не могла, и только последняя Ваша проповедь раскрыла мне глаза и уши духовные, чтобы это понять».
А я, грешник, даже как-то немножко усомнился в этом. Мне кажется, она и в последний раз не совсем поняла, а если и поняла, то только разумом, а не сердцем, но это нужно сердцем понять, это сердцем нужно принять в свое естество — там, в глубине своей души — и тогда будет все просто и ясно.
И вот я думаю, что все мы в таком состоянии находимся, что все мы что-то чуть-чуть поняли, а чтобы это понятное осуществить в жизни — это нам очень и очень трудно.
И я решил за вами, вместе с вами последовать по этому пути и представить себе — какие же трудности находятся перед нами. Эти трудности внутренние и трудности внешние.
Трудности внутренние происходят от нашего маловерия. Наша вера слабая, она исчезает, а между тем все Евангелие, вся проповедь Христа основана на вере. «По вере нашей будет вам», «Вера твоя спасе тя», — через все Евангелие, повторяю, проходит эта вера. «Если веру имеешь, спасен будешь», — мы же маловерные, мы унылые, мы как-то склонны безнадежно смотреть на жизнь. Впереди все у нас как-то мрачно и мы склонны всегда видеть темное.
Люди — плохие, семьи — разваленные, молодежь — никуда не годится, честных людей — нет. Вот и собираем эту нечистоту в свое сердце, и что удивительно, не только собираем, но, как я замечал, как-то даже радуемся, какая-то скверная такая радость: чем больше мы этой гадости в себя примем, тем как будто бы нам как-то приятней. Если сказать такому человеку: «Посмотри, какая молодежь, ты подумай, ты пойди в читальный зал, посмотри, кто его заполняет, ты посмотри, как люди захвачены учением», — он отвернется и скажет: «Нет, пойдем лучше со мной, пройдемся по задним дворам». — «Слушай — честные люди есть на свете, и много честных людей». — «Да где ты увидел их, какие честные люди? — Все жулики, все мошенники».
Вот недавно служил у нас священник из другого храма — от Пимена, он служил всенощную и Литургию, поскольку у нас некому было служить. И вот когда после службы староста хотела заплатить ему небольшую сумму денег, он говорит: «Что вы, нет. Я — нет, нет, я не возьму».
Подумай, он приехал. Когда ему сказали: надо послужить в храме, в Медведкове, он сказал: «С радостью к вам приеду», а когда ему хотели дать маленькую сумму денег за его труды, он отказался: «Нет, я не возьму». А расскажи об этом — не всем, конечно, но многим нашим батюшкам, — они махнут рукой и скажут: «Отец Сергий выдумал». Скажи людям: «Да, люди хорошие!» — глаза как-то слезятся и начинают плохо видеть, как у старух и стариков девяностолетних.
Так вот, дорогие мои, это — внутреннее наше препятствие к познанию этих чудных слов. Оно исходит от нашего маловерия, от того, что мы мало любим Господа, что мало стараемся помнить Его святые заповеди и исполнять их. Но есть и препятствия внешние. Ну, как сказать: «Ваши радости — наши радости»? Скажут: вот вы нас обманываете, — и сейчас же мы как-то падаем духом. Нам не верят, с подозрением к нам относятся, — и мы уже теряем силу идти вперед. Нам скажут: что же вы, наконец, пришли в такой поздний час? Сколько лет вы стояли где-то там, а сейчас вдруг пришли к нам с добрыми словами, с добрыми намерениями. — Поздно! А мы скажем: да, да, мы в единодесятый час, в последний час пришли, но мы все-таки пришли и от вас ничего не просим. Мы пришли к вам не на переднее место, мы не можем быть на переднем месте, ибо нас лохмотья прикрывают, грязная, темная от грехов одежда, мы сзади будем, мы будем вам помогать, мы пришли, любовью подвигаемые. Длячего? Для того, чтобы быть около вас, с вами, и мы верим, что Господь убелит наши одежды, просветит наши сердца, и тогда через нас вам будет радостно — не нашей радостью, у нас радости нет, — а радостью от Господа, которая через нас и будет вам, и вас будет согревать.
Дорогие мои, может случиться, что и разные другие препятствия как-то затуманят наши очи, — печальные воспоминания, например: некоторые потеряли близких, когда было время такое темное, другие еще какие-то претерпели беды и вот они бывают подавлены этими воспоминаниями. Это тоже мешает, но все это надо бросить. Это не значит, что мы не видим плохого, это не значит, что от нас скрыты недостатки. Нет, дорогие мои, мы видим, и даже больше видим, чем другие. Я говорю о тех, кто больше любит. Кто больше любит, то больше видит, кто больше любит, тот больше страдает за любимого. Но любовь — она теплая, она добрая. Ведь о недостатках, о всех наших неустройствах можно говорить и по-другому. Да, можно говорить зло, но как наша радость совсем другая, так и наши печали совсем другие: это печали матери о своем ребенке. И вот, если мы будем так вместе с ними идти узким путем, жить одной семьей, одной жизнью, и постоянно сознавать свое недостоинство, то, дорогие мои, источник животворной любви в нас откроется богато.
Вот я и смотрю, и вспоминаю первые мои слова, первые мои проповеди. Они были до некоторой степени ошеломляющие, потому что казалось — выхода нет, все ужасно, безнадежно. И я не щадил ни себя, ни вас, я все как будто бы сносил на пути, и все мы шли вперед. Трудно, тяжко — шли вперед. И что же мы видим? Мы видим, что пришли ко Христу. Все как бы отметая от себя, мы пришли под Покров Божией Матери и в нас вселяется великая тишина, подобно тому, как была тишина на море. Об этом замечательно повествует евангелист Марк.
Я вам прочту несколько строк. Я вам мог бы сказать их и так, но мне хочется вам прочесть их получше: «Вечером Иисус сказал Своим ученикам: переправимся на ту сторону… И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?» (Мк 4: 35, 37–41).
Вот и мы сейчас в таком положении. Мы все принимаем, все на себя принимаем — всякую хулу, всякую обиду, все, но и проникаемся Христовым сознанием такой немощи человеческой и сочувствием людям. И когда мы это делаем, в душе нашей водворяется необыкновенная тишина, и мы идем узким путем. И на этом узком пути мы встречаем постоянно такие весточки от Господа, которые наполняют нас радостью, дают нам силы, и мы идем и идем вперед.
Вот если когда-нибудь вы ездили на розвальнях зимою по дорогам, на которых нет ничего, даже столбов телеграфных, особенно поздно вечером, когда уже ветер и вьюга. Едешь, и вот — веха соломенная. Ничего не видно, только едешь от вехи к вехе и думаешь: если сейчас не будет их, тогда вьюга нас занесет и мы замерзнем. Но потом видишь: опять веха, и опять, и мы продвигаемся вперед и так, мало-помалу, приезжаем в родной дом. Вот так и мы живем. Вот эти вехи — весточки — Господь нам посылает. И когда мы изнемогаем, и когда нам бывает очень трудно, тут-то сила Божия особенно ясно в нас совершается.
Будем же идти, дорогие мои, вот этим узким путем. Тот путь, широкий путь, который прельщает нас, он пагубный, а вот узкий путь, в сознании своих немощей, этот путь — Христов, и на этом пути нас ждет великая радость.
Дорогие мои, я поражаюсь, как Церковь Святая, Христова, непрестанно влечет наши сердца к себе. Ведь что мы только ни делали, чтобы ее осквернить, что мы только ни делали, чтобы говорить худое, — и все-таки сердце наше тянется к ней, а она, как мать, принимает нас в свои объятия. Мы еще никак не поймем этого, мы как слепые тянемся не туда, куда нужно, как ребенок на груди у матери: ищет грудь, и не находит — и плачет, и ножонками трясет и ручонками. Вот подобно этому и нам в церкви нужен животворный источник благодати Христовой.
Мы его ищем как слепые, и не находим, и капризничаем, и Бог знает, что делаем, и забываем при этом о том, что мы на объятиях у матери своей, на объятиях у Матери-Церкви. Дорогие мои, если мы это почувствуем, — теплоту церковную, — то найдем животворный источник, который питал, питает и будет питать род человеческий.
Много мне еще хотелось сказать вам, но дорогие мои, я всегда с вами — и когда вижу вас, и когда не вижу вас, я тоже беседую с вами, вы всегда в моем сердце. И я, и вы — едино.
А сказано — где два или три воедино, там Я посреди них. И вот когда я без вас думаю о вас, сердцем своим сострадаю вам и знаю, что многие из вас и меня не забывают, я ощущаю благодать Христову, которая соединяет нас и не только нас — всех любящих Господа.
Да хранит вас Господь!
«Если я останусь верен любви»
Прежде всего надо смыть лично со своей совести все грехи. Не может совесть Родины очищаться, если не очищается совесть сынов ее, и прежде всего, собственная совесть каждого из нас.
Вот и путь. Кто не познал его, тому он покажется невыносимо узким. А кто приобщился к нему, тот в узости обретет для себя светлый простор, и такой простор, который может стать необъятно широким, если только каждый из сынов Родины не устрашится этой узости и не обленится в искании Истины. Кто обрел этот путь, тот на месте стоять не может, он всегда будет в движении. Все темное он будет видеть, и даже так ясно видеть, как не способен видеть никто другой, но воспринимаемое им только с еще большей силой разбудит в нем вдохновение побеждать любовью это темное ради Истины.
Я люблю Россию. Ее любили и любят все, но любовь свою все выявляли по-разному, некоторые очень возвышенно, а другие почти полностью теряли свою любовь к ней. О последних не будем думать, а подумаем лучше о тех, кто вдохновенно прославлял имя России.
В их прославлении звучат замечательные слова, и они раскрывают перед нами почти священные образы. Для таких, как Блок, она является даже в образе возлюбленной. Все это прекрасно, но в их прославлении имени России не слышится голоса, который бы раскрывал имя каждого из них: воспевая Русь, они в этом воспевании сами расплывались. И если для них Русь так дорога, как возлюбленная, то невольно возникает неминуемый вопрос: «Возлюбленная-то она, возлюбленная, а ты сам-то кто для нее?» Если она возлюбленная, то ты должен быть возлюбленным ее. Нельзя же воспевать жениху свою невесту, забыв о том, что он, как жених, обязательно должен быть подстать своей невесте. Если бы все, воспевающие Русь, не забывали о себе, о своем достоинстве, а лучше сказать, не ощущали свою нищету, которая особенно очевидна рядом с возвышенным образом Руси, то не дожили бы они до того дня, когда священная Русь сказала им: «Не знаю вас».
Когда в церкви за богослужением воспевают Пречистую Деву Марию, то Ее воспевают разные люди. Одни из них воспевают с трепетом душевным, сознавая, что для воспевания Пречистой уста их непригодны, так как запачканы нечистотой. И это сознание очень дорого, так как оно делает их воспевание Божией Матери таким, в котором почти не слышится красования своим голосом и горделивого превозношения себя. Но на клиросе часто бывают такие певцы, для которых нет разницы в том, чтобы воспевать Деву Марию или паясничать в каком-нибудь кабаке…
Я люблю Святую Церковь. Я — сын ее. Много горького я принес ей, но это горькое только еще больше раскрывает во мне любовь к ней. Образ Святой Церкви, образ Невесты Христовой совершенен по своей красоте и животворная сила его неизмерима, но мы, христиане, своею жизнью осквернили этот образ. Мы страшно обнищали, и было бы прекрасно, если бы мы сознавали эту свою нищету. Но горе нам, что, обнищавши, мы считаем себя богатыми, и чем больше раскрывается наша нищета, тем больше мы возносимся на ложную высоту. Здесь все то же самое ослепление, которое проявляется во всей нашей жизни, и прежде всего, ослепление мое личное.
Но и любовь тоже моя. Она оживотворяет меня, она воздвигает меня к жизни, и я верен ей. Во всем темном, мрачном и неправедном я вижу прежде всего самого себя и твердо знаю, что все это темное и мрачное рассеется, если я останусь верен любви.
Вот эта верность и является светочем моей жизни. Я знаю, что идти вперед можно только в том случае, если этот светоч озаряет мой жизненный путь. Когда этот светоч угасает, тогда надо останавливаться и думать только о том, чтобы не прельститься тьмою и не утонуть в ней.
Когда этот светоч угасает в сердце, человек должен остановиться, хотя тьма в этот момент обволакивает его, стремится прельстить его и поглотить в своей бездне. Это очень опасный момент. Прельщение тьмы бывает бесконечно многообразным. Часто оно принимает форму очень для человека заманчивую, так что обольщение трудно опознать, оно использует самую ничтожную возможность проникнуть в душу человека и овладеть ею. Противостоять этому коварному обольщению может только тот, кто познал теплоту Святой Любви и пригрелся к Ней. Обольстительная тьма и светоч Любви несовместимы: тьма обретает силу в меру угасания Любви. Если человек не осознал в своей жизни, что угасание этого светоча лишает его смысла жизни, то он делается беззащитным перед тьмой, обволакивающей его. Он делается рабом ее, и в этом случае только потрясения жизни могут заставить его очнуться от греховного сна. Но очень часто потрясения в жизни человека, наоборот, еще больше лишают его познания истинного пути жизни, ведущего к утверждению в Истине, и тогда обольстительная тьма греховная поражает не только душу, но и кости человека.
Так как люди слишком легко прельщаются соблазнами, приятными на вид, но ядовитыми в основе своей, то мы, все человеческое общество, находимся в глубоком затмении, которое очень часто лишает нас возможности понимать друг друга, хотя мы говорим на одном языке и употребляем одни и те же слова.
Что же делать? Как же жить, чтобы противостоять врагу? Для этого следует внимательно следить за своим сердцем и упражняться в том, чтобы светоч любви не угасал. Чем раньше человек будет в этом упражняться, тем глубже он преуспеет в этом. В детские годы сердце человека особенно легко воспринимает благодатную радость, которая предохраняет его от касательства греховной тьмы. Но с годами чистота сердца нашего тускнеет, и происходит это потому, что тьма греховная уже изыскала пути, хотя бы и ничтожно малые, которые дали ей возможность внедриться в наше сердце. А дальше с нами происходит то, что мы или начинаем относиться к затмению нашего сердца беззаботно, или же это затмение вызывает в нас тревогу.
В первом случае мы ворота нашего сердца не стремимся прикрыть, и мутная волна темных, обольстительных страстей входит в них свободно, но очень коварно, чтобы не потревожить наше безмятежное настроение. Здесь враг действует с поражающей хитростью. Острие греховной смерти, ради которой он существует, всегда прикрывается так, чтобы оно было скрыто под очень заманчивым видом. Этот заманчивый вид бывает необыкновенно изощренным, когда нужно овладеть человеком высокого духовного сознания. Но когда этот человек ослепляется, то заманчивость врага уменьшается, а потом, когда человек окончательно порабощен, и совсем отбрасывается.
Как же жить бедному человеку, когда сети греховные раскинуты вокруг него? Прежде всего, ему надо остановиться. Но это возможно только для такого человека, который оберегал в своей жизни чистоту детского сердца и был верен ей. Такой человек хорошо знает, что чистота сердца является сосудом благодати Божией, которая излучает тепло не только для него, но и для всех людей через его сердце, а когда тьма подступает к нему и он теряет бодрствование, то тепло исчезает у него из сердца, а холод тьмы, порабощающей его, все больше и больше проникает в него, и будет проникать до тех пор, пока сердце его не окажется закованным льдом. И что удивительно, как замерзающий человек видит даже приятные сновидения, так и человек, у которого льдина подавила сердце, часто испытывает весьма высокие переживания. Ему мерещится, что он благороднейший человек, что цели его жизни безупречны, что он создан для того, чтобы жить в таком самосознании. У него нет никаких сомнений, что он очень умно живет, а те, кто кругом него — второстепенные люди. Он упивается своими личными чувствами, а то, что рядом стоят люди и робко смотрят вокруг, он не видит, да и не хочет видеть. Так он и живет. Но лед, сковавший сердце, укрывший его от действительности жизни других людей и затмивший его собственную совесть, бывает крепким только до тех пор, пока в его собственной жизни надменные переживания остаются непоколебимыми. Но это бывает очень короткое время. Во льду жизни нет. И как только жизнь человека под влиянием всевозможных трудностей, невзгод, болезней и надвигающейся смерти рассеивается, то для человека, ослепленного своею личной жизнью, лед исчезает. Это может произойти сразу или постепенно, это несущественно, а существенно то, что льдина, исчезая, открывает душу человека совсем не подготовленную к тому, чтобы принять на себя крест жизни, уготованный каждому из нас.
И тогда только человек осознает, что все, пережитое им, исчезло как дым, и уныние подавляет его жизнь. Но и здесь человек не поймет того, что уныние и является тем ядом, который он вкусил в расцвете своей жизни под сладкой оболочкой врага.
Еще раз задаю вопрос: что же делать? Учиться жить в чистоте сердечной. Привыкает же человек, встав утром от сна, освежить свое лицо чистой водой. Это входит у него в привычку, и если лишить его этого, то он будет чувствовать себя очень неудобно. Вот так надо привыкать человеку блюсти и свое сердце в чистоте, и когда это станет привычкой, тогда человек будет чувствовать себя очень неловко, если чистота сердца его потемнеет.
Стыдно человеку с неопрятным видом показываться перед людьми, даже если он их не уважает, но как мало мы испытываем стыда, когда встречаем людей в нечистоте своего сердца! Но если мы с этой нечистотой будем жить, то она нас заведет во тьму греховную.
Чтобы спастись от этого, надо остановиться, внутренне остановиться, сознавая, что ни шага мы не должны делать в таком состоянии. Мы будем должны, конечно, жить и исполнять необходимое, но внутренне, в своей совести, мы должны быть мертвыми, не доверяя никаким обольстительным мыслям, которые враг внушает нам. И в таком положении человек должен оставаться, забыв о времени и ожидая только того, чтобы в гробовом омертвении, а оно является лучшей защитой от вражьего искушения, блеснул луч или хотя бы искра Святой Христовой Любви. И только тогда он увидит, какие обольстительные бездны были вокруг него, как ловушки, расставленные врагом для нашего порабощения.
Но часто враг стремится поработить нас не обольстительными мыслями, а открытым нападением, безжалостно нанося нам удары, вдруг на человека обрушиваются бедствия, начиная с самых малых и кончая смертельными, весь арсенал своего оружия пускает он в ход, а цель его одна — сломить дух человека и поработить его.
Такие нападения враг совершает по своему произволению, но не без попустительства Божьего: они необходимы для того, чтобы определить степень преданности человека воле Божьей в любви к Нему. Часто человек бывает так слаб, что не выдерживает простых укоризн, а тем более оскорблений и унижений, не выдерживает разных жизненных невзгод и ожесточается, теряет веру. У него рождается стремление защитить себя любыми средствами, и если это ему не удается, то в нем укореняется затаенная злоба и он ждет случая, чтобы отомстить за все унижения, которые он претерпел. В этом случае он отрывается от Бога и полагается на свою силу или на помощь людей, подобных себе.
Врагу этого вполне достаточно, так как он запутал в своих сетях человека и господствует над ним.
Но не всякий человек поддается такому малодушию и оставляет благодатное единение с Богом. Многие противоборствуют и, несмотря на все вражеские искушения, сохраняют верность Богу, и Господь посылает им силу противоборствовать искушению и не оставляет их до тех пор, пока они остаются верными Ему. В этом случае человек не только побеждает искушения, но и выходит из них окрепшим, готовым к еще большей борьбе с искусителем.
Но жизнь переполнена испытаниями несравненно более тяжелыми, чем те, которые были упомянуты. Люди теряют самых близких людей, сами подвергаются болезням, бывают жертвами стихийных бедствий и всякого насилия. Эти испытания часто носят такой характер, что лишь очень немногие способны их выдержать, не отступая от Христа, а не отступает от Христа тот, кто живет в любви к Нему и в преданности Его Святой воле. Большинство же людей расслабляются духом, теряют веру, ожесточаются, омрачаются ненавистью, ропщут на несправедливость, как они думают, Божью, ропщут на Бога и даже отрекаются от Него. А это врагу нашего спасения только и нужно.
Жизненный путь такого человека усеян всякими испытаниями. Для христианина эти испытания, независимо от их тяжести, являются поводом для свидетельства своей любви ко Христу. Надо стоять на одном месте до тех пор, пока огонек любви святой не обогреет мое сердце и не осветит путь жизни предо мной, и в тот самый миг тьма, которая подавляла меня, хотя и остается, но коварной, прельстительной силы в себе уже не имеет.
С человеком происходит подобное тому, как на заре рассеивается ночная тьма, и человек все больше и больше видит окружающее. Только тут он обнаруживает, что в то время, как его тянуло вперед, он стоял у бездны. Но он не доверился себе, пока отблески восходящего солнца не осветили землю, и как только отблески мелькнули и осветили то, что было перед ним и окружало его, так он сразу устремился вперед, минуя бездну, по верному пути.
«Я это хорошо чувствую, и поэтому испытываю глубокое облегчение, когда говорю тебе то, что меня мучает. У меня такое ощущение, что я, говоря с тобой, перекладываю на тебя то, что мучает меня. Я уже не чувствую себя одиноким, и хотя меня часто подавляют отдельные переживания, но я ощущаю твою душу и мне бывает легче. У меня рождается надежда, что ты не только поймешь меня, но и поддержишь».
«Будем надеяться, что общими усилиями мы устоим против унылых настроений. Но сейчас я вижу, что ты очень неспокоен. Я слушаю тебя».
«Вся моя жизнь открыта перед вами…»
Друзья мои, сегодня слово мое будет особого содержания. Вы уж меня заранее простите. Может быть, вам… тошно будет слушать.
Я не собирался сегодня приезжать сюда, но в субботу меня посетил наш о. К. и сказал, что в храме анархия, что в храме беспорядок полный, подписи какие-то, и просил меня, чтобы я приехал сюда для того, чтобы все поставить на свое место. Когда я приехал, то не нашел никакой особенной ни анархии, ни беспорядка, ничего такого я не нашел, и поэтому мне водворять порядок здесь не приходится.
Но задается вопрос: «Почему же я не приезжал?» На этот вопрос трудно ответить, но ответить следует.
Конечно, не приезжал я не потому, что лежал больной и был беспомощным. Здоровье мое, конечно, не такое, чтобы я мог где-нибудь в гонках участвовать или какие-нибудь пудовые гири поднимать. Все-таки пережившему обширный инфаркт, а потом два микроинфаркта и инсульт здоровым быть нельзя, но мне крупные специалисты сказали, что другого такого больного в Москве нет, как я: который перенес то, что я перенес, и при этом способен к тому, к чему я способен. Поэтому на болезнь свою я ссылаться не могу. Да, я всегда болен, и вы всегда должны помнить, что в моем положении все легко может быть.
Если еще прибавить к этому ужасающую, я бы сказал, бессонницу… Дорогие мои, эта бессонница меня мучает 25 лет. Об этом мне даже трудно говорить. Меня вынуждает обстановка как бы даже хвастаться собой. Чего другого, а хвастать собой у меня нет никакого желания. На уколах таких очень сильно действующих снотворных — как мое сердце выдерживает? Это чудо.
Итак, значит, я не был больным. Тогда почему же все-таки я не приезжал сюда? Один очень близкий для меня человек, можно сказать человек, который в известном смысле обязан мне, может быть, даже своей жизнью, сказал: «А что ему приезжать? У него миллион». Если бы это сказал просто кто-нибудь, но это сказал человек — сын мой, которого я выносил на своей груди! Тогда я решил приехать и с вами побеседовать.
Многие из вас знают меня во всей моей жизни. Вся моя жизнь открыта перед вами. Вы ведь прекрасно знаете, что я был пять лет в соборе и жил в самом соборе1.
Как войдете в собор, на правой стороне будет отгорожена такая, ну, что ли комната. Она разделена на две части. В одной части уборщицы раздевались, а в другой части я жил. Там была громадная батарея, рассчитанная на то, чтобы давать тепло на весь храм. Эту батарею никто не уменьшил, даже отключателя там не сделали. На другой стороне — там все было устроено так, как нужно, потому что там была такая особа, которая была слишком близка к тому человеку, который тогда был во главе храма. А тут никого не было и ничего не было. Как затопят — дышать нечем, как прекратят топку — мерзнешь.
Вы меня простите, мне приходится уже как бы хвастаться перед вами, но давайте уж до конца поговорим сегодня о том, о чем нам необходимо поговорить. Так вот, дорогие мои, а улица, вы знаете, там очень шумная, ночью там грузовики шли и стук был невозможный. А окно выходило как раз вот на эту улицу.
Там я служил пять лет. Мог ли я жить где-нибудь в другом месте? Конечно, нет. Меня многие приглашали, просили, чтобы я у них ночевал. Прекрасные люди — прекрасные, заслуживающие полного доверия. Но я оставался в храме. Утром и вечером. Служил утром, служил вечером, и опять служил утром. Один день в неделю я был свободен, когда я уезжал на дачу. Вот так я там и жил.
Простите за то, что я это говорю, но фактически собор был на мне. Не на настоятеле, не на протопресвитере Николае, весь собор был на мне. Там по две литургии в день. На ранней я помогал, позднюю служил. Вечером акафисты. Вы же знаете, что там был акафист, и сейчас идет акафист иконе Божией Матери «Взыскание погибших», — я всегда его служил. В среду был акафист святителю Николаю — я его тоже служил с ними. В пятницу бывали акафисты иконе Казанской Божией Матери. Иногда и на ранней литургии тоже служил…
Спросят: а почему ты служил, почему ты так мучился? Да потому, что Господь меня привел на такое место, я и должен был отдать все свои силы. Нужно было бы умереть — я бы умер там. Что я мог сделать? Я там служил!
Но и тогда уже обнаружилось мое полное несогласие с управлением нашей церкви. Какое оно — я вам разъясню.
Но пришлось мне оттуда перейти в церковь около Курского вокзала — Покровскую церковь. Там я тоже пять лет служил и там я тоже жил при храме. А как я жил при храме — Матреша у нас здесь есть, она вам может рассказать, потому что она сопутствует мне. Покойница мать Ефимия была и Матреша — вот они знают, как я там жил.
Первые годы я жил там, как вам сказать (показывает): вот котел, который отопляет храм, здесь уголь. А две ступеньки выше — маленькая, не комнатка, и даже не чулан какой-нибудь, а просто, ну, закуток, я даже не знаю, для какой цели он был. Там не было ни отопления, ни вентиляции, там не было ни света — там ничего не было, кроме сырости. Вот Царство Небесное этой дорогой матушке Ефимии: она ближе к концу всенощной выходила, зажигала там керосинки или что-то такое, высушивала одеяльце, которое там лежало, даже не то, что высушивала, а чтобы оно хоть потеплее было… Вот так я там и жил. И там я жил пять лет. Правда, потом мне удалось построить двухэтажную пристройку. Наверху была крестильня, а внизу — помещение…
Мне скажут: почему же ты не мог жить у кого-нибудь? — Не мог жить, потому что дух мой другой! Я в мирской обстановке жить не могу. Хотя я и никуда не годный монах, но дух мой, он требует особых условий. Вот так я и жил.
Потом меня оттуда перебросили в совершенно утопавший приход — в Богородском. Там беззаконие — полнейшее, разорение — ужасное. И вот когда там — такой есть прот. Аркадий Тыщик, он сейчас настоятель во Всехсвятском у Сокола, — вот когда он там натворил бед и когда там вспыхнул пожар, то меня направили туда, чтобы я угашал это безобразие.
И опять я там жил. Жил в комнатке, где было делопроизводство, что ли. Здесь, знаете ли (показывает), проходила трамвайная линия, а мое окно как раз было здесь. А трамваи очень поздно приходят. Там я и изучил, когда приходят трамваи в парк, — до этого я никак не понимал, а тут я очень хорошо изучил, что они приходят очень поздно, и когда поворачивают на углу, то скрип они такой делают… Я никогда не знал об этом скрипе, а тут я узнал, потому что только закроешь глаза, а тут вот он идет… А утром… А утром они уезжают рано. Вы не думайте, что они в 8 часов уезжают. Нет, они очень рано уезжают. И снова проходят мимо. И снова покоя нет.
В Богородской церкви был приход, разоренный полностью. Все в пожаре, все в огне. Два года мне дали послужить. Но с Божией помощью за эти два года было сделано там столько, сколько не было сделано за все время в этой Богородской церкви. Между прочим, когда спросили еще в Покровской церкви: «Откуда у вас деньги?» (пристройку там сделали и еще специальное помещение для уборщиц), они сказали: «Нам отец Сергий дал». А что значит «отец Сергий дал»? Отец Сергий пришел и начал молиться. А людям ничего не нужно, кроме молитвы. Вот и пришли они на эту молитву, молящихся стало больше, и даяние больше. Вот и была возможность делать это. То же самое в Богородской церкви.
Эх, не буду я вам обо всем этом говорить так, как мог бы сказать. Ведь я и сейчас почему говорю? Потому, что пришел час.
После этого я на два года был отстранен, два года я не служил. Патриарх Алексий, покойный, сказал мне, что он очень хотел, чтобы я с ним всегда сослужил, потому что он ко мне очень хорошо относился, но и он беспомощен был что-нибудь сделать. Я к нему не ходил и ни разу с ним не служил. В патриархию я не ходил и с ним не виделся.
Почему я не служил с ним литургию? Потому только, что литургия — это величайшее таинство. Литургия — это все. И ее служить можно только в одном случае: если сердце в полной тишине, если любовь, если человек как бы забывает себя и весь уходит в то таинство, которое совершает. А как бы я мог стоять у престола, как бы я мог говорить тому же Колчицкому: «Христос посреди нас», а он бы отвечал: «И есть, и будет»? Как бы я мог это говорить, когда я же вижу, что получилось-то Бог знает что — разбой же!
Ну хорошо, я не имел ни зла на него, и ничего решительно не имел. Я даже незадолго перед его смертью2 написал письмо патриарху Алексию, чтобы он, наконец, ну, примирил меня с ним. Потому что так же нельзя жить. Ну, почему-то здесь замедлили, прошел месяц — его разбил паралич, так все и окончилось.
У патриарха Алексия были разные намерения в отношении меня. Но я особого склада человек. Он это знал. И вот дали мне Медведково.
Ну, Медведково, дорогие мои, такой храм был, вам об этом говорить не приходится, он был полностью разорен. Я здесь не нашел ни одного места, где чувствовалась не то чтобы любовь, а просто приличие. Здесь все было осквернено. Вот и начал тут.
Служил я здесь один. И жил здесь при храме, и служил один. И служб было почти не меньше, чем теперь, ну, чуть меньше. Но я один служил, без дьякона. Бывало, служишь панихиду — полхрама остается, служишь молебен — полхрама остается, пока не кончишь все… Так я здесь служил.
Спрашивается, если человек сказал, что у меня миллионные средства, то мог бы я что-то такое себе приобрести? Ничего не приобрел, ничего не сделал, а жил так, как придется.
Была и есть у меня дача. Ну, какая дача? Я жил у Красных ворот, но в 1938 году место, где стоял мой дом, понадобилось людям высоким, и они выселили из Москвы всех, живущих в этом доме. Дали по 250 рублей (по теперешним деньгам, а раньше это было 2500 рублей) каждому: выезжай за город — и всё. Это теперь вас милуют, дают вам квартиры. А тогда время было такое: невзирая на то, кто там, что такое, — уезжайте. Вот тогда, получив эти деньги, взяв ссуду в банке 1000 рублей, по нашим деньгам теперешним (10 000 рублей раньше), ну, кое-как, значит, построились.
Трудно было? Очень трудно было. Роптал я на Господа? Никогда. Никакой капли ропота не было! Слава Богу за все! Так я и жил. Так я и дальше жил.
А сейчас и квартира есть здесь. Дорогие мои, в 66 лет я получил здесь 8-метровую комнату. В 75 лет я получил 16-метровую комнату. И скажу вам по совести — иногда сижу я в этой комнате и думаю: «Ой, Господи, а лучше, пожалуй, отсюда уехать! Ведь сколько есть людей, которые находятся в очень тяжелых условиях, а я живу, как барин». И мне бывает стыдно, горестно бывает — как же я так живу? А если к этому прибавить, дорогие мои, что вся моя семья жила очень скромно — я в своей жизни рюмки водки не выпил, дорогие мои, я в своей жизни ни разу в ресторан не приходил, я в своей жизни никогда на курорте не был, и все мои так же жили, вся моя семья.
Спрашивается, могут ли быть у меня какие-нибудь деньги? Ну что я вам буду говорить, конечно, есть сбережения. Да как же иначе, если, в конце-то концов, все работают, все стараются, все трудятся, не мотают, ничего нет, одеваются скромно?
Вот вчера приехал я сюда с дачи. Со мной ехал очень близкий, дорогой для меня человек. «Пойдем, — говорю, — зайдем, выпьем стакан чаю. Чем-нибудь нас угостят». Поднялись мы с ним. «Ну, — говорю, — друзья (там встретили нас мои дочки3), ну как, что, чем нас угостите?» — «Ну, чем? Гречневая каша есть». Ну и спасибо. Сели мы все за стол и этой гречневой каши поели.
Так вот всю жизнь: был недостаток — славу Богу, был достаток — слава Богу, была теснота — слава Богу! Так всегда во всем.
Так вот: тот, кто сказал, что у меня миллион, он недостойный клеветник. И боюсь, что ему придется за это отвечать перед Богом…
Так вот, дорогие мои, значит я не потому жил там4, что мне просто вольно было полежать, погулять — почему не жить? Не поэтому. А почему? Потому что мне было очень трудно сюда ехать. Внутренне, духовно трудно ехать.
Дело в следующем. У меня с патриархией есть разномыслие. И глубокое разномыслие. Оно идет… с каких же лет? Ну, я думаю, что не ошибусь, — с тех пор, когда мне еще было десять лет. Вот так, с десятилетнего возраста у меня уже было с ней разномыслие. В чем же оно заключалось? А вот в чем. У нас был законоучитель. И он ужасный был такой… Ему можно было бы не Закон Божий, а атеизм вести, потому что своей жизнью (Цыпляковский его фамилия, Царство ему Небесное) он сам отвращал от Закона Божьего. Мы знали, что он однажды последнюю овцу взял за одну из треб — за похороны. Ну, знаете ли, детская душа — она все понимает. Она больше понимает, чем пожилой человек. Потому что сердце чистое сразу же внутрь воспринимает все это и глубоко-глубоко впитывает в себя.
Когда я окончил реальное училище (а там Закон Божий формально преподавали очень серьезно, я думаю, что едва ли сейчас в семинарии он преподается так, как там), то поступил в институт. Время было такое трудное, голодное. Я вернулся туда, где мои родители жили, и стал я работать.
Поступил работать в Кооперативный союз. Я поступил практикантом и очень быстро стал инструктором. Прошло некоторое время — стал заведующим инструкторским отделом. А это было еще тогда, когда кооперация не была национализирована. По каждому уезду был инструктор. В частности, в одном уезде был приехавший из Москвы высокоинтеллигентный человек, сын очень такого маститого философа, то есть, вернее, не сын, а племянник, очень интеллигентный. А в этом уезде, в этом городе председателем кооперативного товарищества был прот. Борисов, и он там безобразничал. Безобразничал он, значит, надо ревизию делать. А тот инструктор, который там был, он такой слишком уж хороший, что ли, был. А нужно было с этим господином как-то немножко построже поступить. Меня командировали, чтобы я производил вместе с тем инструктором ревизию.
Когда ревизию мы сделали, то увидели, что там очень много мошенничества. Мне было тогда двадцать—двадцать один год. А я его5 знал раньше, когда учился в этом городе. Я говорю: «Соберите собрание уполномоченных». Ну, он не мог отказаться, собрал. Я доложил. Но он — конечно, я-то был двадцатилетний, что я мог сделать, а он был такой жулик прожженый — он собрал тех, кого он хотел, и в результате, когда я поставил вопрос о том, чтобы сменить председателя, то большинства не нашлось. Я так и уехал.
Но я опять видел лицом к лицу человека, который был в сане протоиерея, был настоятелем храма, и я видел, что этот священник — не священник, а разбойник. Опять-таки хороший урок. И когда я уже пришел сюда и вошел в собор, то первые дни в соборе я не знал, куда мне бежать, куда я попал, потому что я видел, что творится в алтаре собора.
Вот тогда я и узнал: есть священнослужители — и это величайшая честь, и есть — попы. И вот у меня борьба началась. За священство. За то, чтобы у престола Божьего были достойнейшие люди — не такие, как я, а в белых одеждах. Не в таких лохмотьях, как я, а люди со светлой совестью. Вот за это я боролся. Это было тяжело принять, но все равно для меня было ясно, что да, только по этой линии можно идти.
Вот так, дорогие мои. Так я и жил. Сюда пришел. Много времени, много сил, много всего пережил я здесь. Потому что скверные люди есть всюду. Много мне здесь пришлось преодолеть тяжелых переживаний. Ведь за моей спиной никого не было. В патриархию я не мог пойти за помощью — там только и ждали, чтобы меня лишний раз хлыстнуть. Но они также знали и то, что как они ни хлыстали меня, а со мной ничего нельзя сделать. Я стоял, с Божьей помощью, и выстоял. Они все уже сошли с лица земли, а я вот даже и сейчас перед вами стою и исповедую.
У меня нет с ними расхождений в вере. Я — более православный человек, чем они. У меня нет с ними никакого расхождения в вопросе о Церкви. Я — сын Церкви, я люблю Церковь больше, чем они. Но поповство я ненавижу.
Беда наша в том, что церковь сейчас почти не имеет созидательного значения в жизни. Она не созидает… Нельзя же на одном только величии, на одном только пышном богослужении прожить… Нужна жизнь духовная. «Врата адовы не могут одолеть Церкви». Нужно спуститься, как я вам говорил, умалиться (Мф 18: 4), нужно со всеми быть вместе6, слушать всех, покрывать любовью своей все немощи — для того, чтобы подняться и понести крест свой дальше.
Ну хорошо. Но все-таки они меня оставили в покое. Так я и жил. Они знали, что меня лучше не беспокоить, потому что всякий раз, когда меня беспокоили, они получали соответствующий от меня ответ.
А тут вдруг случилась такая вещь. Прислали из патриархии, как будто бы по благословению патриарха или по его указанию, одно уличное, скверное анонимное письмо — на отзыв. Это было так: я приехал служить на Троицу литургию, и утром почтальон мне передает это письмо. Когда я его вскрыл, я был полон возмущения. Не на то, что кто-то это написал, — о них даже недостойно говорить вслух. Я был глубочайшим образом возмущен: как в патриархии осмелились это сделать? Как им не стыдно там? 77-й год мне. Так неужели же мне посылать такие уличные письма? Ну, конечно, дорогие мои, я не оставил его без должного ответа.
Но все-таки о письме. Кто же писал это письмо? Какие люди? Как вам сказать? Какая-то слякоть. Даже трудно себе представить. Потому что настолько гадкое письмо, настолько скверное письмо, что даже не знаю, как их лучше определить… Между прочим, когда я с о. К. об этом говорил, он меня убеждал в том, что это не здесь, что это другие какие-то люди, словом, это не отсюда. Хорошо. Я не позволю себе сказать, что о. К. это сделал, избави Бог! Конечно, в таком глупом письме принимать участие он не мог. Но все-таки это отсюда зло. Я думаю, как же это могло быть? Я здесь пятнадцать лет. Как можно было написать такое письмо?
Письмо безграмотное, клеветническое, лживое, гадкое, гадкое письмо. Кто же это такие люди? Я хотел их хорошо определить, так чтобы им было памятно и на будущее время, и я решил, что лучшее определение — церковные крысы. А почему «церковные крысы»? Я вам скажу. Когда я в соборе жил, в той комнате, там проходило отопление, а трубы проходили через стены, и в стенах — отверстия. И в эти отверстия, помимо всех прочих вещей, которыми я там наслаждался, еще бегали крысы. Ну, церковные крысы, Господи Боже мой, — они у меня хлеб поедят, там еще что-нибудь… Я относился к этому благодушно, потому что им надо все-таки как-то тоже жить. Так ведь? А в церкви ведь много не найдешь. Они бегают, бегают там и голодные куда-то бегут дальше. Так что я к ним относился мирно.
Но есть церковные крысы другого сорта: они — Тело Христово, они Божие дело портят. Вот поэтому я и решил, что надо мне отойти в сторону. Надо мне отойти в сторону, потому что у меня нет сил. Будь бы пятнадцать—двадцать лет назад… Господи, что я пережил тогда! Но сейчас у меня мало сил, у меня крошка сил. И может быть, те, которые говорят, что у меня деньги большие, они, вероятно, думают, что я там на даче гуляю по лесу. — Ни одного раза не вышел я в лес, хотя лес от нас всего-то пять минут. Ни разу! Я там много работал. И работал, опять-таки, для вас. Когда-нибудь придет час, и вы узнаете об этой работе. Но это работа — работа. Ночи бессонные, потому что те же мысли постоянно меня тревожат…
И вдруг такая гадость, такая слякоть! Я и поставил вопрос: для чего же я здесь нахожусь? Неужели для того, чтобы последние силы моего сердца иссякли совсем? «Больше, — сказал я себе, — не поеду туда», и перестал ездить. Но когда о. К. приехал и сказал мне, что здесь анархия, тогда я решил ехать и рассказать вам все так, как есть.
Теперь в отношении вопроса с о. К. С о. К. у нас самые милейшие отношения личного порядка. Восемь лет мы с ним послужили. За восемь лет он от меня не слышал ни одного неприязненного слова. Но сейчас началось такое дело. Сейчас, дорогие мои, опять-таки, я говорю, что маленький остаток сил, который у меня имеется, его нужно израсходовать наилучшим образом. Ведь не на церковных же крыс мне расходовать эти силы! Ведь они дома у себя все портят, в семьях у них Бог знает что, на работе они отвратительны — везде, где они только ни коснутся, от них все вянет. Так неужели же я буду с ними иметь какое-нибудь общение? Или допущу, чтобы они стояли около меня? Я вот пришел сейчас на клирос, на левый, посмотрел и кое-кого не увидел, и думаю: «Слава Богу, что я их не увидел».
Для чего же я буду здесь? Я могу здесь быть только для созидания. Какого созидания? — Преображения всей нашей храмовой жизни. Они в своем гадком письме отметили, что вот, наши ящики… — вроде того, что осудили то, что мы перешли на такую систему (без ящика вообще). Так вот — это только начало! Надо идти дальше, глубже. Нам нужно, чтобы этот храм был училищем духовной жизни, чтобы мы отсюда выходили и приходили домой, и чтобы дома знали, что нужно делать. Ведь вы имейте в виду, что наши семьи — больные! Их ведь нужно успокоить, ибо то муж ведет себя Бог знает как, то дети ведут себя тоже Бог знает как. И семьи-то нет.
Что же, христиане, к чему мы призваны? Разве только к тому, чтобы пропеть какое-то соло здесь или простоять, прослушать что-нибудь и уйти? Мы для чего приходим сюда? Для того, чтобы напитаться. Мы, как пчелы, берем взятку, несем ее в ульи свои и заполняем ею соты. Тот — христианин, кто пришел домой, забыл о себе, отдал себя всего служению ближнему. Тот — христианин. Вот недавно одна женщина, которая работает уборщицей в больнице, — она видит, как часто больные остаются там беспризорными, как они там плохо ухожены. Ведь есть такие люди, которых отвозят в больницу, и — пропадай, значит, все. Так вот, она там остается, она там помогает, она старается ободрить людей. Вот это и есть подвиг христианский. Вот ради чего мы собираемся. Больше нам ничего не нужно. Ни богословствования, ни пения какого-нибудь особенного — ничего решительно. Только молитва, тишина и самоотвержение. Чем проще, чем теснее, — тем ближе ко Христу.
Так что если у меня остаются еще какие-нибудь силы небольшие, то, дорогие мои, я должен их израсходовать самым разумным образом. И вот здесь-то и возникло у меня разномыслие с о. К. До этого времени мне было не до него, не до этих разномыслий. Потому что другие задачи были. Слишком много было дел, которые меня отвлекали, нужно было все-таки многое еще сделать. А сейчас — вплотную до них.
Вот здесь жизнь наша, она уже является для меня главным оправданием моей жизни. Я работу веду особую и, кроме того, служение мое здесь. Но я здесь не доживать пришел. Доживать я могу и в инвалидном доме, если меня, конечно, пустят туда, или, вернее, отпустят туда. Вот. Я не доживать пришел. Я пришел жить, трудиться и до последнего вздоха побуждать вас к тому, чтобы подниматься в гору все больше и больше, забывая о себе. В чем? Простираясь куда? — В любовь, в служение ближним своим. Вот, дорогие мои, вот для чего я здесь могу остаться.
Но здесь мы с о. К. — разные люди. Он уже пожилой, сформировавшийся священник. У него свои понятия, и не мне его разубеждать. У него свои привычки, и не со мной ему от них отвыкать. У него все свое, и очень крепкое свое. Но это его — оно мне чуждо. Когда он ко мне приехал, мы имели с ним милейшую беседу, и я всегда с ним готов беседовать. Но совместно с ним трудиться в храме мне тяжело. Поэтому я и решил отойти в сторону. И все предоставить Господу — как Господь управит наши пути и, в частности, всю мою жизнь, так и будет.
Вот так, дорогие мои, я вам открыл свое сердце полностью. Простите меня за все и будем надеяться на то, что Господь нас вразумит и направит.
Да хранит вас Господь!
(Народ выражает горячую поддержку)
9 июля 1975 года.
Примечания
1 Имеется в виду Елоховский Богоявленский патриарший собор. — Прим. ред.
2 О. Николая Колчицкого.
3 Сестры из общины о. Сергия. — Прим. ред.
4 За городом.
5 Протоиерея Борисова.
6 «Для всех был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых» (1 Кор 9: 22).
Мы стремились осмыслить нашу церковную историю
12 марта 1975 г.
Дорогие братья и сестры! В последнее время мы с вами стремились осмыслить нашу церковную историю, осмыслить путь нашей церковной жизни, начиная с IV века. Само собой разумеется, об этом надо было говорить не те небольшие проповеди, которые я говорил, об этом нужно было бы говорить очень много, но возможностей для этого не было: у нас было только краткое время. Но у меня была определенная цель, к которой я стремился, и цель эта заключалась в том, чтобы подойти к настоящему времени и ответить на чрезвычайной важности вопрос: каково же место христианина в современной жизни? Когда я вспоминаю то, что я говорил, то мне становится грустно, — грустно потому, что я о многом не мог сказать, многое сказал не так, как мне хотелось бы сказать, многое я сказал, по немощи своей и по греховности своей, не так ясно, не так чисто и светло, как подобало бы сказать. Но что делать…
Сегодня, как я вам уже сказал в последний раз, мы должны соборно, сообща в нашей молитве попытаться найти подлинный ответ на этот вопрос, который нас, верующих, глубочайшим образом беспокоит.
Напомню кратко то, что было сказано. Я не буду уже говорить о том времени, о IV веке, не буду говорить о времени равноапостольного Владимира, когда крещение русского народа происходило местами огнем и мечем, — остановимся с вами хотя бы на последних веках. Можно сказать так, что вся церковная история России, весь наш церковный путь можно разделить на четыре части. Первая часть — это время преподобных Антония и Феодосия, Печерских чудотворцев. Мы, к сожалению, о них не могли беседовать, а там есть что сказать, ибо они принесли нам на Русь великое знание духовной жизни. Второй период был связан с именем преподобного Сергия. Третий период связан с именем преподобного Нила Сорского. И четвертый период связан с именем преподобного Серафима Саровского. Должен вам сказать, что это до некоторой степени мое личное понимание церковной истории, церковной жизни. Я никому его не навязываю, я никого не побуждаю разделять его, но я стою на своем месте и обязан говорить то, что мне внушает моя совесть.
Итак, есть четыре периода, и каждый из них имеет свое глубочайшее значение. Время прп. Сергия — это было время, когда Русь поднималась на борьбу против татарского ига. Прп. Сергий был орган, который звучал полнотою, — такой, которой теперь мы можем только удивляться. Я вспоминаю то старое время: в семьях иногда кто-нибудь уходил в монастырь, и эта семья, если она была верующая, радовалась, что кто-то от семьи находится в монастыре. Этот ребенок, девушка или юноша, — они были как бы цвет семьи. И вот, прп. Сергий был такой благоуханный цвет семьи — всей семьи русского народа! Он оставил все и ушел в дремучий лес, на пустынное жительство. И хотя потом его старались поднять и возвеличить в народе и значение его все больше расширялось, но он как был пустынником, как был подвижником — так и остался, как был бедным, нищим — таким и остался. При нем Русь была едина. В то время господствующие слои населения особенно не гордились. Они знали, что смертельная угроза висит над Русью, и эта угроза нависла не случайно, а от греховной жизни русских людей, и прежде всего, русских князей и тех, кто был в управлении страной. Но есть народы, которые в такой ситуации ломятся и исчезают с лица земли, и есть народы, которые это испытание переносят мужественно и выходят из испытания отрекшимися от своей греховной жизни.
И вот, во время прп. Сергия на Руси было все едино и все были едины, и князья были связаны с церковью не так, как потом были связаны, а пришел великий князь Дмитрий Донской и коленопреклоненно перед худым, сиротным, несчетным Сергием пал и просил благословения. Сергий его благословил и сказал ему, что он победит. Ибо Сергий видел, что здесь, на этой стороне — уже сила Божия, а там — гордыня…
Как вы знаете, прп. Сергий был действенный человек. Он был не только молитвенник, не только печальник о земле русской, но он был и деятель. И тогда можно было это действо осуществить в жизни: светская власть, княжеская власть — она прислушивалась, она поддержки искала в церкви. Прп. Сергий был и строителем, его можно представить себе с топором в руках, как плотника… Он был кем хотите — и печальником, и молитвенником, и утешителем, и примирителем враждующих, и он везде был — Сергий.
Но вот иго татарское свергнуто, и опасаться стало некого. И то нас гнуло к земле, а то мы стали уже и сами над другими людьми господствовать. И мало-помалу княжеская, а потом царская власть — она все больше и больше обретала силу и все больше и больше слепла — она не понимала того, что сила русского народа заключалась не в том, чтобы обширные территории захватывать, не в том, чтобы внешнее могущество создавать, а прежде всего эта сила — внутренняя, духовная, нравственная. Власти же чем дальше, тем меньше об этом думали, и тем больше гордыня их поднималась, и тем тише был голос святой Христовой Церкви. Стали воздыматься и у нас в церкви иерархи под стать этим сановникам, этим князьям и царям — такие же важные, такие же бездушные, как и те, кто управлял государством. И вот, этот разрыв между светской жизнью и жизнью духовной становился все больше и больше, и светская власть все больше гнула духовную, и все тише становился голос Христа в эти дни. И вот тут — прошло всего каких-нибудь 120 лет, — как вдруг блеснуло имя преподобного Нила Сорского. Большинство же из вас и не знает этого имени — Нил Сорский… Но в это время уже был Иосиф Волоцкий — сторонник самодержавия, сторонник того, чтобы светская власть опекунствовала над церковной жизнью, сторонник того, чтобы бороться насилием с теми, кто не был согласен с церковью и кто был неугоден светской власти.
Иосиф Волоцкий и Нил Сорский: вот вам потрясающая картина! Нил Сорский — о чем он говорит? Он говорит: прежде всего — духовное, внутреннее строение, внутреннее созидание жизни. И этому было все подчинено. Он всему учил, он учил и посту. Поститься надо, но он предупреждал, что лучше есть и пить вдоволь, чем поститься, если у тебя нет любви, если у тебя нет благодатного духовного состояния. Больший вред будет от тех, кто постится и злится. Прп. Нил Сорский говорил: да будут отдельно гражданская и церковная власть, они должны быть взаимно независимы. А Иосиф Волоцкий — он сам чуть ли не меч в руках держал, он требовал казни еретиков, он требовал пожизненного заключения даже для тех из них, кто раскаялся! Вы об этом уже слышали в прошлую среду, но я вам напоминаю сейчас, потому что это имеет серьезнейшее значение для того, что я хочу сказать. Прп. Нил Сорский всех инакомыслящих, как теперь говорят, старался убеждением и молитвою привести в Церковь, а Иосиф Волоцкий — насилием. Прп. Нил Сорский говорил, что свобода в духовной и внутренней жизни дороже всего. Он не обязывал своих иноков ни к каким особым уставам: келейную жизнь они могли править, как хотели, молиться — сколько их душа находит необходимым. Дело не в том, чтобы тысячи поклонов класть, а дело заключается в том, чтобы Дух Святый жил в сердце. А ради этого надо молиться, надо поститься, вести подвижническую жизнь. Говорят что Иосиф Волоцкий принимал к себе заволжских старцев для того, чтобы поучиться духовной жизни, и будто бы Нил Сорский к себе принимал монахов из Волоцкого монастыря, от Иосифа. Да, говорят, что это было так, но заволжским старцам нечему было учиться у Иосифа Волоцкого, потому что там не было самого главного, там не было любви, не было христианского отношения к жизни!
Вот тогда-то уже действия, полного духовного руководства Церкви, действия Церкви в мире становилось все меньше и меньше. А прп. Нил Сорский уже устраивал скиты. Не монастырь — он уже и не думал о монастыре, потому что он был против вотчинного владения, он был против золота и серебра, против богатства церкви. Он говорил, что нужно, чтобы монахи сами себя кормили, своим собственным трудом. А Иосиф Волоцкий говорил: чем богаче, чем шире, чем больше блеску, тем лучше. Опять же, под стать тому самодержавному строю, который тогда был. А прп. Нил Сорский монастыри не устраивал, но скиты — скиты, где собирались 5—10, много — 15 человек. Когда умер прп. Нил Сорский, в его скиту было всего 12 человек. Вот это он делал, и все. Значит, действия его были уже очень сжаты, он весь уже ушел в созерцательную, внутреннюю, духовную жизнь. А что стало расцветать? А расцветать от этого стала церковь внешняя, такая, которая распускалась по мере того, как распускалась и наша светская власть. И чем дальше, тем больше. Но пришло время, когда церковь совсем перестала быть нужной для гражданской власти, и гражданская власть стала ее давить. Я вам рассказывал ужасные подробности, которые были связаны, скажем, с Арсением Мациевичем, я уж не буду их теперь повторять, — это все было законно, все это было так, как должно было быть, потому что церковная пышность была основана на насилии сверху. Пока было насилие — и церковь была такая грандиозная, а насилие уходило — и церковь бледнела и падала. Я говорю, что с Иосифом Волоцким связан целый период, когда церковная жизнь уже перестала духовно объединять всю Русь: при Сергии была она, можно сказать, полной, она всю землю нашу охватывала, в молитве прп. Сергий всех как бы поддерживал, а здесь гражданская власть, царская власть как бы стала жить по своим собственным законам и преследовать собственные интересы и интересы тех господ, которых она собой представляла.
Мне очень грустно было увидеть в первом номере «Журнала Московской патриархии» статью, которую написал очень уважаемый мною деятель нашей церковной иерархии, — достойный человек, умный и, может быть, один из самых культурных. И вот, у него я читаю, что Иосиф Волоцкий и Нил Сорский — они были как бы друг с другом связаны, что они представляли собою как бы один ряд. Читать в 1975 году, на шестом десятке лет после 1917 года в «Журнале Московской патриархии» статью, которая касается этой жизни, и видеть, что автор, почтеннейший человек, ничего не понимает!!!
Что было в нашей церковной жизни в то время?! Какое может быть соединение Иосифа Волоцкого с Нилом Сорским?! — Только Нил Сорский умер, успел умереть, как Иосиф Волоцкий, как эти самые «стяжатели» разгромили все заволжские скиты и монахов, старцев разбросали по всем краям, северным краям нашей необъятной родины! Нил Сорский умер, а все его старцы, все его ученики, все были разогнаны. А Вассиан Патрикеев, который был княжеского рода, но который тоже был на стороне Нила Сорского, — он был осужден собором и отдан в пожизненное заключение! Кому? Иосифлянам! Как раз тем людям, которые больше всего ненавидели Нила Сорского и его учеников. Там он кончил жизнь.
После этого что же делать? Где же слышать голос совести христианской? Кто может сказать: была она или ее не было? — Ее не слышно было, она жила в сердцах людей, простых русских людей, в стонах этого народа, в его бедствиях. Русь стонала, ведь есть господствующие, — значит, кто-то должен стонать. Вот и стонал простой человек под игом этих господствующих людей. Вот и жил Христос среди стонов этого народа, почему так и говорится, и изображается такой образ Христа: как бы Он идет по Руси и благословляет всех страждущих и обращающихся к Нему за помощью. Но, конечно, Его не видели и не хотели видеть те, кто стоял во главе. Они считали, что они вечно могут господствовать, и императоры так и начинали свои Указы: «Мы, Божией милостию император Всероссийский, король Польский, князь Курляндский…», и пошло, и пошло — там десять или пятнадцать таких наименований. Значит, «Божией милостью»… А наши иерархи должны были писать: «мы, милостью царя, обращаемся к вам…» Но, друзья мои, не надо забывать, что всему бывает конец, и милость Божья иссякает. Они не Божией милостью правили, а Божиим долготерпением, но долготерпение исчезает. В какой момент? В тот момент, когда Господь найдет это нужным. Это и случилось в 1917 г. Рухнули императорские подпорки, рухнул этот строй, и стала висеть наша грандиозная церковная организация как бы на ниточке какой-то. «Где труп, там и орлы», — а для того, чтобы с нашей церковной организацией покончить, и орлов не надо было: просто дунул ветер — и все полетело.
Так что же делать-то нам дальше? Как же жить-то? Ведь уже шестое десятилетие с тех пор идет! Что изменилось в нашей жизни? Извлекли ли мы из этого урок для себя? Осознали ли мы свое бедственное положение? Может кто-то сказать, и это можно часто услышать: «Как же можно осознать, когда советская власть гонит церковь, храмы закрывает, монастыри тоже закрыла, разрушила?» А вы спросите у тех людей: «А в тех храмах, которые открыты сейчас, в них-то слышен Христос или нет? В них-то есть дух Христовой любви? Как, можно его ощутить или нет?» — «И не спрашивайте! О нем там никто и не думает!» — А думают о чем? — «О формочке! Формочку соблюдают, но духа нет». Так почему же вы говорите, что советская власть гонит церковь? Вы бы эти храмы привели в порядок, вы бы здесь-то возродили Христово служение! А иначе у вас и последние-то уйдут, и плакать о них не будут. Почему не будут? Да так уже сейчас привыкли — жить без Бога. Ну, хорошо, зайдут в храм Божий. А уйдут с чем? Постоял, и вышел на холод, вышел в мир. Вот. Что же делать?
Что же делать? — Это вопрос, который меня мучил всю мою жизнь и который вот и привел меня — кто знает, может быть, в последний раз — с вами беседовать. Нет, я не собираюсь вас оставлять. Я не могу об этом даже думать, потому что я чувствую, как жаждет русский человек правдивого слова, и я должен его сказать, и я говорю, и до конца скажу! Это моя святая обязанность, святой долг. Только тогда я закрою глаза, когда увижу, что моя совесть уже высказала все, что выстрадало сердце мое за свою жизнь.
Так вот, нам говорят, что церковь угнетают. Хорошо. Я уже вам на это сказал: как же ее могут угнетать, когда в наших храмах сейчас и стоять-то тошно бывает, — надо иметь силу большую, чтобы отрешиться от всей этой показухи и сосредоточиться на молитве! Но не всякий на это способен, для этого нужна большая духовная культура.
Что еще говорят? Говорят: безнравственность. Безнравственность? А откуда она? Что, наши законы предписывают безнравственность? Покажите мне: где, в каком месте написано, чтобы безнравственно жили люди? Люди живут безнравственно… Но это люди так живут! Кто же эти люди? — Мы! Так о нас и нужно говорить, а нечего кивать на власть, что она нас безнравственности учит.
Говорят, что бесчестность, воровство. Хорошо. А разве нас гражданская власть учит воровству? К чему нас призывает Господь после 1917 года? К созданию братской жизни, к созданию такой жизни, когда мы друг друга подпираем, когда мы друг с другом связаны узами нерушимого единства. Не будем говорить — во имя кого. Мы, верующие, — во имя Христа, мы со Христом, через Христа, но это не имеет значения для того, чтобы чувствовать себя как бы в своей семье. Наш народ — наша семья. Разве нам сейчас мешают богатеи, разве мешает нам знать какая-нибудь царская, или царят помещики, или еще кто-нибудь, банкиры? Никто нам не мешает. А если у нас дела бывают иногда плохи, так почему они плохи? Потому что мы с вами никуда не годимся!
Говорят некоторые еще о том, что да, нужно церковь освободить, вот церкви это нужно, что она в таком состоянии, ее стеснили… Стеснили церковь? Подумайте, что они говорят! Они говорят о свободе, они говорят о демократии на европейский лад… Да они не понимают простых вещей, что для нас, христиан, не может быть никакой свободы, у нас свобода в сердце нашем: «Где дух Господень, там и свобода!» Если мы сейчас в таком паршивом виде, если мы ползаем и не можем поднять голову кверху, то потому только, что мы сами никуда не годны, мы сами — рабы наших страстей плотских и всяких грехов. Освобождайся от них с помощью Божией — и ты обретешь свободу. И те, кто нас там учит с Запада о том, что вот, церковь угнетена, те издеваются над нами, — ах, как бы я хотел с ними поговорить, с этими людьми — так, душа в душу. Я бы им сказал: замолчите, вы ничего не понимаете, вы только растравляете наши раны, у нас здесь совсем не о свободе нужно говорить. А о чем? Об очищении своего сердца, надо говорить о том, что прп. Серафим нам завещал.
А ведь прп. Серафим — это новое явление в нашей жизни. После Нила Сорского все замолкло, и вдруг такое светлое имя: преподобный Серафим! Вы что думаете, он был очень приятен для тех людей, которые господствовали тогда? Нет, он тысячу дней и тысячу ночей пребывал на камне в молитве. Для чего? «Мысленного врага побеждая и Господу поя: Аллилуйя!» — так в акафисте сказано. Он побеждал врага… Какого же врага? Обычно, говоря об этом, все сводят к тому, что у прп. Серафима какие-то были грехи, ну, как у каждого человека. — Нет! Это все не то! Прп. Серафим с самого начала, когда пошел в лес, в чащу… он же получил от прп. Досифея Киевского благословение пойти в Заволжскую пустынь, а Заволжская пустынь была строгого житья, там был общежительный монастырь, там ничего личного монахам не разрешалось. Он пошел туда, и уже то, что он пошел туда, было свидетельством, что и любовь и преданность была у него ко Христу достаточная и ему не нужно было для этого тысячу дней и тысячу ночей на камени в молитве пребывать! Нет, он пребывал там за всех! — За всю Русь, за весь русский народ, «врага мысленного побеждая».
А что, вы думаете, с ним сделали? — Его загнали назад! Монахи, настоятель, конечно. А ведь это же не настоятель был, он же кем-то был поставлен — так откуда и кто в нем говорил? Подумайте, им стало страшно, опасно оттого, что прп. Серафим, влияние его, слава его, имя его, так волнует души, что он призывает людей к правде Божией… «Давай же в монастырь! Ты заглохнешь тут!» А когда он ушел в дальнюю пустынь, приходили к нему и ломали ему печку, — чтобы он от холода оттуда убежал! Но он оставался! Наконец, все-таки заставили его вернуться в обитель. Насильственно. Он вернулся, и что сделал? Ушел в затвор. Ушел в келью и перестал принимать. Родился он в 1759 г., а в 1810 г. он ушел в затвор. И в затворе он пребывал 15 лет. Пять лет он никого не принимал. Через 5 лет он сделал некоторое послабление, но не выходил никуда, и только уже в 1815 году, по внушению Божьей Матери, он открылся для приема всех…
Скажите, что это такое? Почему ему нужно было такую борьбу выдержать? Ну, друзья мои, подумайте: ведь куда выйти, с кем говорить, как говорить? Бороться же невозможно — сила страшная. Если уж Арсения Мациевича Екатерина приказала отправить в Ригу, в тюрьму, и дала ему имя Антон Враль, и так он и пошел с этим, там он и умер, — так что там какой-то прп. Серафим, ведь тогда он был простой, ничтожный монах, — все можно с ним сделать. Но тем не менее, прп. Серафим ушел в затвор — в знак того, что он не может принять всего того, что он видел в той обители, в которой находился.
Чему он учил? Он учил: «Обогащайтесь Духом Святым. Обогащайтесь стяжанием Святого Духа». Стяжанием… Что такое «стяжание»? — Приобретение. Как в былое время: приобретали рубль к рублю, капитал наживали, так вот и прп. Серафим призвал к тому, чтобы стяжать Духа Святого. А для этого что нужно? Для этого нужна борьба с помыслами, борьба со всякими искушениями, и по мере этого, по мере победы над этими врагами, над этими искушениями, и будет выходить в мир благодатная сила христианского духа. Вот что он нам завещал. Он нам завещал стяжание Святого Духа. У тебя что в жизни — непорядок? Смотри внутрь себя, проверь свою жизнь, проверь, как ты жил раньше, проверь всю свою жизнь, и когда ты умиришься в своем сердце, когда ты оплачешь свои грехи, тогда с тобою, как великий учитель духовной жизни Исаак Сирский говорил, умирится небо и земля. У тебя в семье непорядки? Подожди судить, подожди искать виновного, подумай о себе, проверь себя: нет ли у тебя озлобления, нет ли у тебя гордыни, нет ли у тебя зависти, не мучает ли тебя стяжательство: что, что, в чем дело? Вот, вы знаете, в псалме «На реках Вавилонских», там говорится: «О камень убиет младенца, о камень» Вот, как младенца, грехи наши нужно еще в самом зачатии уничтожить. И когда вы будете это делать, тогда вы будете совсем по-другому воспринимать жизнь, тогда вы найдете свое место всюду, куда ни придете, всюду вы будете желанными.
Итак, каков же смысл нашей церковной жизни? Смысл церковной жизни— учиться жить во Христе! Если мы этого делать не будем, то, дорогие мои, ничего, кроме горя и мрака, нам испытать не придется. Надо нам упрощаться, надо нам умаляться, нам нужно проникнуться любовью к своей родине, нам нужно понять, что теперь мы имеем прекрасные условия для нашей духовной жизни. Скажите, кто здесь мне был помехой? А вы знаете, я ведь здесь говорил и говорю так, как едва ли какой-нибудь партийный работник может говорить. Я говорю с полной свободой. Дело только во мне: и мой голос был бы еще более убедительным, если бы моя жизнь была чиста, если бы я сам был честен перед Господом. А так — что же? Что мы делаем? Кого мы видим?..
Да, входишь вглубь своей души, в тайну своей жизни, и там беседуешь с Творцом, с Создателем, и оплакиваешь свои грехи, и в тот момент, когда все откроешь, когда сознание как-то непостижимо откроет все закоулки, все скрытые места души и вот когда это все оплачешь, когда уйдешь в самую глубину, и чем глубже, тем лучше, и подольше там побудешь, — вот в этой страде, вот в этой муке, вот в этих трудах, незримых трудах, слезах, незримых слезах, скорби, незримой скорби, — то потом поднимешься и посмотришь вокруг себя и скажешь: «Господи, как же я счастлив, что Ты со мной! Вижу я радость: вот, льется она вокруг меня. В каждом я вижу дыхание Твое. Даже если кто считается самым последним, то для меня он не самый последний, он для меня — первый! И я вижу в нем образ Твой. Он заваленный, заваленный всяким хламом, он обесчещен, но, Господи, а я-то, ведь если я сейчас так говорю, так ведь я-то ж был более обесчещен, ведь если я говорю теперь так, то только потому, что Ты дал мне благодатную силу, чтобы осознать это. Господи, дай же эту силу и тем, кто сейчас страдает, не понимая, в ослеплении, не понимая того, что ведет жизнь без Тебя, Сына Божьего, ведет жизнь без Пречистой Девы сей: открой им глаза». Вот тогда эти люди войдут в жизнь, тогда они, дорогие мои, все увидят другим и вся жизнь их преобразится.
Трудно вместить это слово, но мы призываемся к тому, чтобы вместить это, и в этих словах божественных плечо к плечу, друг с другом братской любовью соединяемые, вместе созидать нашу новую жизнь, созидать ее наилучшим образом. Пусть говорят, что вот там темно, что вот такие-то люди все, не слушайте! Знайте, что это говорят слепцы и клеветники. А вы спросите себя: что ты сделал для того, чтобы избежать этого, помог ли ты? Посетил ли ты хоть кого-нибудь, какое-нибудь падение, но посетил с любовью, а не с тем, чтобы сказать: «Ах, ты такой-сякой», — и все?
Вот, мне сегодня сказали, что видели женщину, пьяную женщину в женский день: ее с одной стороны поддерживал мужчина, вероятно муж, а с другой стороны — ребенок. А она шла, шатаясь. Можно сказать: ах, какая негодяйка, ах, какая… и выругать ее до последней степени. Но не надо. Не надо! Жалейте. Жалейте! Это несчастнейший человек! Несчастная она, несчастный муж, несчастные дети! Дело не в том, чтобы их судить, дело не в том, чтобы таких топтать, а дело в том, чтобы им послужить, чтобы их поднимать рукою помощи. Но поднимать не так, чтобы свалиться и быть внизу, не поднимать, как нас «поднимают», поднимая сверху вниз, — так они себя могут только погубить, а поднимать так: опускаясь вниз, вниз, ниже этих людей, самых плохих, самых, кажется, уже темных; вот, смиряясь, смиряясь до конца, смиряясь до смерти во Христе!
Вот каков путь, путь внутреннего делания, путь, который был завещан нам Антонием и Феодосием Печерскими, прп. Сергием, прп. Нилом Сорским и нашим почти современником прп. Серафимом. Вот этот Серафимовский дух, этот Сергиевский дух, этот Ниловский дух, этот киевский дух — он должен в нас богато возрастать, и тогда, дорогие мои, мы с вами воспрянем и жизнь наша преобразится. Мы почувствуем Христову любовь, разлитую в жизни, мы увидим образ Христов в каждом человеке, а больше счастья, чем это, быть не может!
Вот так мы и должны закончить нашу жизнь. Вот таково место христианина в современной жизни.
Да хранит вас всех Господь!
* Имеется в виду смена высшей власти. — Ред.